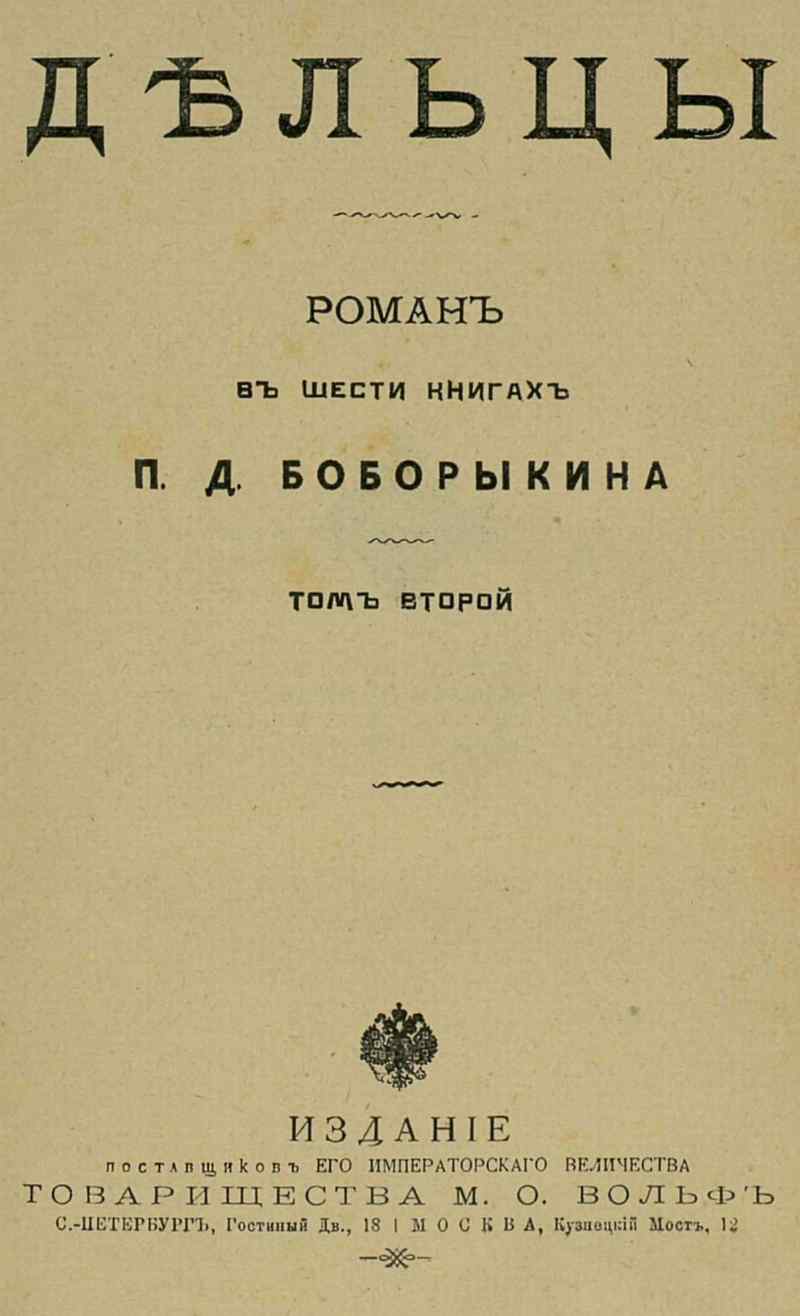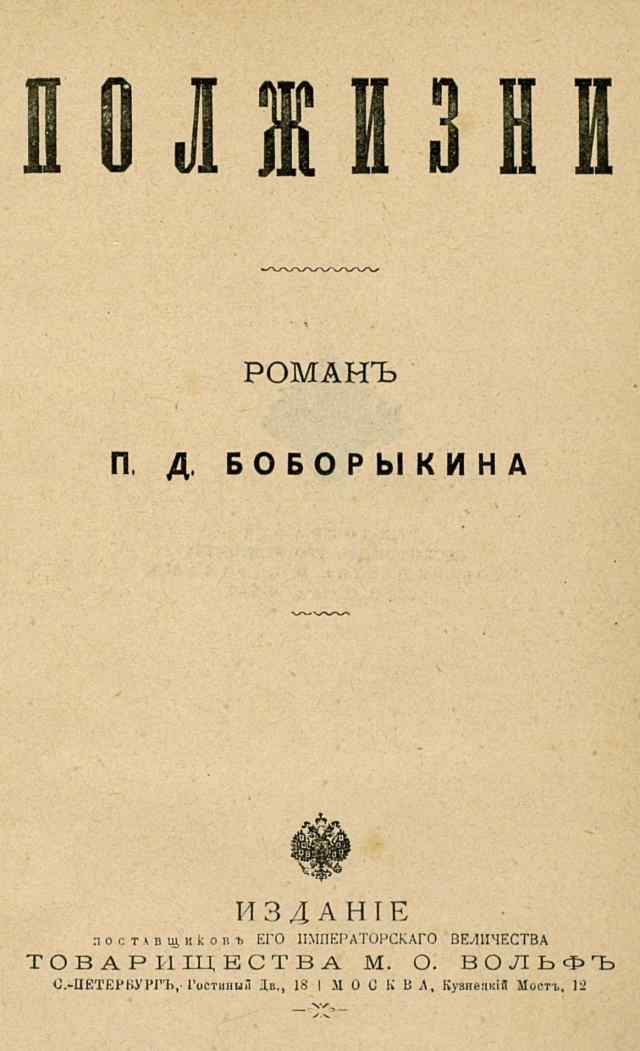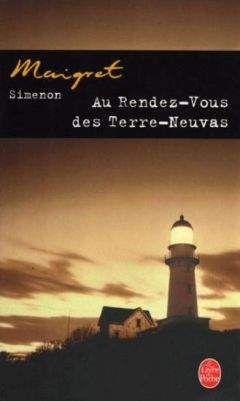супъ. Ей хотѣлось втянуть Ѳедора Дмитріевича въ шуточный разговоръ. Онъ это понялъ и готовъ былъ-бы отвѣчать ей въ тонъ, но чувствовалъ, что оно у него не выйдетъ. Онъ взглядывалъ все на лицо Надежды Сергѣевны, имѣвшее выжидательное выраженіе.
— Гдѣ побывали, Ѳедоръ Дмитріевичъ? — спросила она.
— Да вотъ по своимъ дѣлишкамъ тоже ходилъ…
— Есть-ли надежда вамъ пристроиться здѣсь?
— Врядъ-ли; да признаться вамъ сказать, Надежда Сергѣевна, мнѣ этотъ Петербургъ совсѣмъ не по душѣ. У меня только и есть близкихъ-то людей, что вы да вотъ Лизокъ. Ну, товарищи нашлись-бы, да изъ нихъ народъ-то вышелъ неподходящій. Зашелъ я тутъ какъ-то въ академію. Натыкаюсь на одного чернеца. Онъ ужь въ регаліяхъ разныхъ, а вмѣстѣ мы съ нимъ въ бурсѣ деревенское толокно ѣли. Изволите-ли видѣть, въ сильные міра сего лѣзетъ, въ архіереи. И разговоръ одинъ: какъ ему карьеру свою поскорѣе сдѣлать… Нѣтъ, мнѣ здѣсь не слѣдъ оставаться. Лучше въ какой-нибудь глуши ребятишекъ учить и быть тамъ на свободѣ.
— Мы васъ не пустимъ! — вскричала Лиза.
— Лѣто-то пробудете здѣсь? — спросила Надежда Сергѣевна.
— Извѣстное дѣло. Надо вотъ и васъ совсѣмъ на ноги поставить.
— Ахъ, Ѳедоръ Дмитріевичъ, вы и такъ за меня хлопочете… Теперь я совсѣмъ оправилась и могу сама ходить, да, кажется, толку-то немного будетъ изъ этого хожденія.
— Дайте срокъ, Надежда Сергѣевна.
Лиза оглянула ихъ обоихъ, и въ глазахъ ея промелькнуло безпокойство за мать.
— Вы отъ меня скрываете, кажется, горькую истину? — сказала Надежда Сергѣевна, глядя съ тихою улыбкой на Бенескриптова.
Онъ опустилъ немного голову и началъ сильнѣе дѣйствовать ножомъ и вилкой.
— Мама! — вскричала Лиза: — зачѣмъ ты ему мѣшаешь ѣсть?
— Ужь я по вашему лицу, Ѳедоръ Дмитріевичъ, вижу, что вы получили отказъ въ редакціи.
— Дай ему доѣсть… Зачѣмъ ты его тактъ… толкаешь?
И Надежда Сергѣевна, и Бенескриптовъ разсмѣялись.
— Ну, Ѳедоръ Дмитріевичъ, — сказала весело Надежда Сергѣевна: — разсказывайте теперь все.
— Да вотъ ужь лучше вамъ Лизокъ разскажетъ.
— Это очень простъ! Надо искать libraire, а всѣ журналъ… я не знай, какъ это сказать… Но они тамъ ничего не понимайтъ. On exploite les travailleurs [2].
— Ну, Лиза, — все такъ-же весело проговорила Надежда Сергѣевна: — ты мнѣ немного объяснила.
— Слушай, мама, зачѣмъ искать des patrons? Мы оставимъ общество, coopération, и будемъ сами печатать книги.
— А на какія деньги, мой другъ? — спросила мать.
— Деньги зачѣмъ? Намъ нужно только печатать.
— Ну, а какъ-же печатать? Даромъ никто не станетъ работать.
— Et le crédit? [3]
Надежда Сергѣевна и Бенескриптовъ опять разсмѣялись. Лиза надула губки.
— Вы меня не хотить понимать! — вскричала она и стукнула даже ноженъ по тарелкѣ.
Бенескриптовъ долженъ былъ повторить свой невеселый разсказъ о неудачѣ помѣщенія рукописи въ журналъ; но кончилъ, возлагая большія надежды на того человѣка, который собирается заниматься издательскимъ дѣломъ.
Послѣ обѣда Бенескриптовъ далъ урокъ Лизѣ, а Надежда Сергѣевна немного прилегла. Часу въ восьмомъ Лиза проводила Бенескрпптова до воротъ и, ласково глядя ему въ глаза, сказала на прощанье:
— Семинаристъ мой прелестный!
— Ишь ты! Ужь сказали-бы лучше: семинарпстпще!
И онъ, потрепавъ дѣвочку по плечу широкою ладонью, зашагалъ по направленію къ набережной. Лизокъ имѣла даръ отпускать Бенескриптова въ веселомъ настроеніи, а то бы онъ не справился съ своими ощущеніями. Ему было особенно горько за ту женщину, которая такъ дружественно дѣлила съ нимъ хлѣбъ-соль. Онъ начиналъ серьезно бояться за ея кусокъ хлѣба. Онъ очень хорошо зналъ, что она живетъ на послѣднія деньжонки, а до сихъ поръ хлопоты о подъисканіи сколько-нибудь обезпеченнаго труда нарывались на рядъ отказовъ. Бенескриптовъ чувствовалъ необычайное уваженіе къ уму и способности Надежды Сергѣевны на всякій умственный трудъ; но приходилось уже дѣлать послѣднія попытки. Періодъ жданья и надеждъ истекалъ.
Бенескриптовъ тѣмъ болѣе сочувствовалъ этой женщинѣ, что ея судьба имѣла одинъ общій мотивъ съ его, тоже не красной, долей. Они оба промѣняли гораздо лучшую жизнь на полнѣйшую необезпеченность, изъ-за желанія предаться какому-нибудь живому дѣлу на родной почвѣ.
Ѳедоръ Дмитріевичъ Бенескриптовъ былъ, нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, псаломщикомъ одной изъ русскихъ посольскихъ церквей. Онъ вышелъ изъ семинаріи съ правомъ на санъ священника, но, не чувствуя никакой склонности къ духовному званію, съ великою радостью взялъ мѣсто заграничнаго дьячка. Первые два года ему жилось очень хорошо. Попалъ онъ въ большой, веселый, привольный городъ. Дѣла почти никакого. Гуляй-себѣ хоть цѣлый день, ѣшь и пей сколько хочешь, завязывай пріятныя знакомства, ходи по увеселительнымъ мѣстамъ и упражняйся на иностранномъ языкѣ. По природѣ умѣренный, Бенескриптовъ, живя въ свое удовольствіе, сводилъ концы съ концами и втянулся-было въ особаго рода бла-годушество, представлявшееся ему самою пріятною, невозмутимою житейскою дорогой. Но къ концу втораго года сталъ его заѣдать червякъ. Началось съ того, что онъ влюбился въ какую-то Леопольдину съ свѣтлыми локонами. Поджидалъ онъ ея прохода черезъ мостъ, два раза въ день, и цѣлый мѣсяцъ не смѣлъ приступить къ ближайшему знакомству. Леопольдина такую закинула удочку въ его сердце, что онъ готовъ былъ и на законный бракъ. Леопольдина немедленно склонилась къ законному браку; но вышла исторія въ видѣ какого-то воина, уже давно удалявшагося съ Леопольдиной «sich amüsiren». Бѣдный псаломщикъ разбилъ свой идеалъ и сталъ читать книжки. Въ это-же время столкнулся онъ съ кое-какими русскими, изъ молодыхъ медиковъ и натуралистовъ. Онъ примкнулъ чрезъ нихъ къ цѣлому кружку, откуда на него пахнуло другимъ воздухомъ. Прежде всего онъ, думавшій, что живетъ «у Христа за пазухой», ощутилъ себя въ унизительномъ положеніи. Ему не только сдѣлалась несносна его зависимость, но и способъ зарабатывать кусокъ хлѣба. Онъ взглянулъ на себя, какъ на тунеядца, получающаго хорошій окладъ за то, что два раза въ недѣлю попоетъ и почитаетъ. Зерно самостоятельности, лежавшее подъ спудомъ въ его натурѣ, начало бродить съ необычайною быстротой. Мечтой его сдѣлалось такое положеніе, гдѣ-бы онъ былъ хозяиномъ дѣла. Выслушивать приказы, быть произволомъ личнаго каприза — сдѣлалось для него каторгой. Въ немъ забродило и развилось также другое зерно: нравственная взыскательность къ себѣ и къ другимъ. Онъ вступилъ въ лихорадочный періодъ честности. И тутъ, конечно, ближайшая обстановка начала мутить его невыносимо. Свою личную жизнь, въ предѣлахъ тихаго труда, знакомствъ, желаній и стремленій, онъ подвергъ самому безпощадному разбору, слѣдилъ за каждымъ своимъ шагомъ и помысломъ и возстановлялъ ежесекундно должное равновѣсіе. Но свои служебныя обязанности не могъ онъ устроить по-своему. Приходилось терпѣть многое не только какъ подчиненному, но и какъ невольному участнику.
Бенескриптовъ мотъ уйти въ другое мѣсто. Измѣнились-бы начальственныя лица, но характеръ жизни остался-бы тотъ-же самый. Продолжалась-бы та-же синекура, то-же сознаніе мелкой подчиненности, тѣ-же невольныя сдѣлки