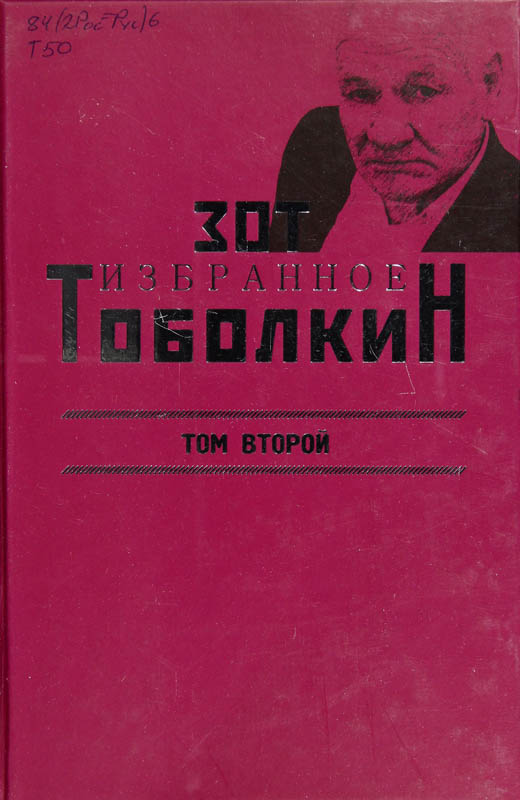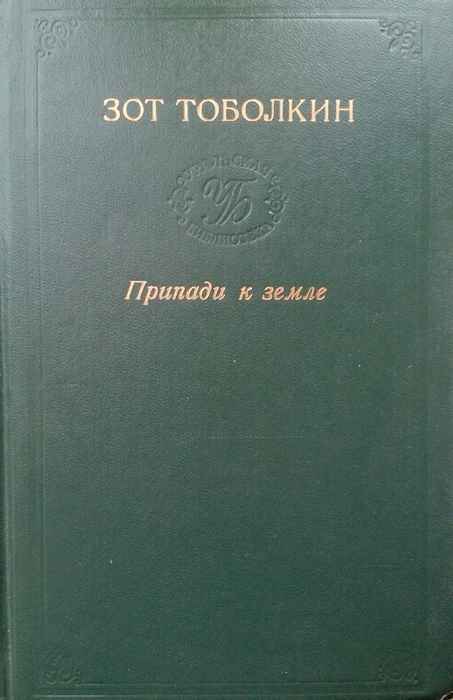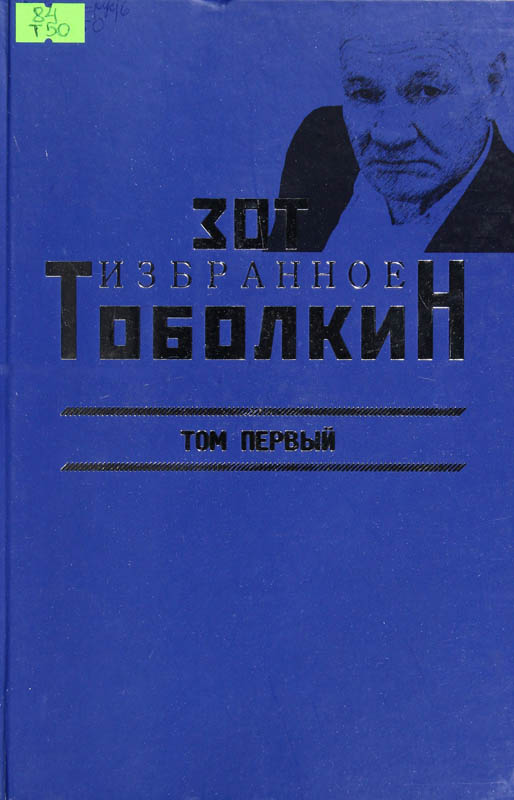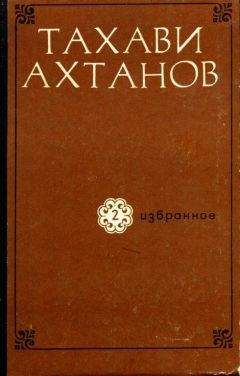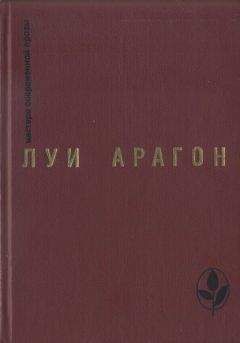Наташа. – Один ум хорошо, два лучше.
- Спит, понимаете. Метветь сипирский! – негодовал Сэротетто, встряхивая радиста.
- Не лезь, – отмахивался Маламыжев. – Посплю, пока отсиживаемся.
- В чём дело? Почему не тянет? – допытывалась Наташа, ощупывая всё ещё тёплый двигатель.
- Механик прилетит – скажет.
- И я скажу, – вмешался цыган. – Я вам сразу скажу...
В доме раздался душераздирающий вопль. Оттуда пулей вылетела Фима.
Никогда! – вскидывая немощные кулачки, провозгласила она. Скатившись с крыльца, сделала стойку и с ещё большим пафосом заявила: – Обязательно!
- Вот это экземпляр! – выронив сумку от удивления, воскликнул Вася, устремляясь навстречу старушке.
- Это Фима, – смущённо покашливая, узнал её старый охотник. – Я её с тех ишо лет помню!
- Никогда! – снова вскричала Фима.
- Во вредительстве меня обвинила.
- Обязательно! – подтвердила Фима.
- Я в ту пору у рыбаков бригадирил... Ладно что справку мне дали: так, мол, и так, рыба у Якова Насонова отменная и вылов всех боле. А то бы загремел по Фиминому доказу. Верно говорю, Фимушка?
- Обязательно! – согласилась с ним Фима. За ней с нарастающим интересом следил журналист.
«По верхам скольжу, – упрекнул он себя. – Вон какие факты вскрываются!»
Крики в избе ненадолго смолкли. Вскоре оттуда вышла Анфиса Ивановна.
- Машинку-то вашу скоро исправите? – спросила она, отогнав детей подальше. – Там старик кончается...
- Час от часу не легче, – вздохнул цыган и вдруг вспомнил: – Я ж ему краски купил... у студентов.
Сбегав на баржу за красками, он кинулся к дому.
- Куда? – остановила его Анфиса Ивановна. – Там роженица. Ты лучше вертолёт ремонтируй.
Цыган метнулся обратно. Не зная, как быть с красками, кинул их в раскрытый люк вертолёта и пал в траву. Поплакав и успокоившись, велел завести двигатель.
«Вот так, – философски заключил Вася. – Род приходит, и род преходит. А земля вовеки стоит...»
- Это хороший человек! – горячо доказывал цыган, словно кто-то с ним спорил. – Это очень хороший человек!
- Самый лучший, – поддакивали ему маленькие цыганки.
- Да! Да! – сквозь слёзы кричал Димка.
Сэротетто вхолостую гонял двигатель, и рёв его проникал через стены. Там, в доме, лёжа на старых газетах, изнемогал от боли старый художник. Иногда эта боль была так сильна, что он надолго терял сознание. Потом открывал воспалённые глаза, чему-то улыбался сухими губами, кого-то звал неслышным голосом. Неслышным, потому что ревел вертолёт и в соседней комнате, рожая, очень громко кричала Тидне.
«Кричу я, – принимая крик роженицы за свой, думал художник. – Зачем я кричу-то? Терпеть надо. Теперь уж скоро...»
- Мне бы туда, – робко и неизвестно кому сказал журналист, бывавший в самых неожиданных переделках. Однако и ему не доводилось присутствовать одновременно при смерти и при родах. – Я должен это видеть. Понимаете?
Анфиса Ивановна металась между ложем роженицы и смертным одром. В печке грелась вода. На лавке дымился ядовито-зелёный отвар. Она поила им старика, меняла повязки, прикладывала к воспалённой багровой ране листья каких-то трав. «Не жилец, – вздыхала печально, а лицом улыбалась, подбадривала умирающего. – Сдал Петрович...»
Потом уходила к Тидне, извивавшейся на оленьих шкурах.
Кузьмин неслышно проник в дом. На цыпочках подкравшись к художнику, заглянул ему в глаза и чуть слышно спросил:
- Вам плохо?
Вопрос был глупый, и Вася сам это знал, но ничто другое не пришло ему на ум. Да и не всё ли равно, кто и какие скажет теперь слова? Они Вениамину Петровичу ничем не помогут. Художник давно это понял, давно прочитал свой приговор в глазах Анфисы Ивановны.
- Только бы успеть... передать бы... – думал отрывисто, изо всех сил стараясь припомнить, что именно нужно успеть и кому передать.
- Скоро вертолет исправят... Вас доставят в больницу, – утешал его Вася. – Потерпите немножко!
- Туда... к Вере, – вспомнил наконец художник и облегчённо улыбнулся. – Туда, пожа... пожалуйста.
Вася не понял, чего он хочет, и стал допытываться, кто такая Вера, к которой хочет умирающий. Он слишком громко допытывался: его услыхала Анфиса Ивановна, пошла, чтоб вытурить, но в это время двинулся плод.
Высказав последнее свое пожелание, Петрович закрыл глаза. С этого мгновения до самой кончины он ясно сознавал себя, мог размышлять и пользовался этой последней возможностью... Боль или смилостивилась над ним и утихла, или онемело уставшее от неё тело, как говорят, притерпелось.
А Вася разрывался, то приникал к двери, где слышались мучительные стоны роженицы, то подсаживался к художнику и утешал его, едва ли сам вникая в смысл утешений.
- А может, поплывёте? Тут баржа на приколе...
- Туда... к Вере, – повторил художник, не открывая глаз. Услыхав слабенький писк в горнице, улыбнулся. Вася, выпучив глаза, метнулся в сенки и заорал: