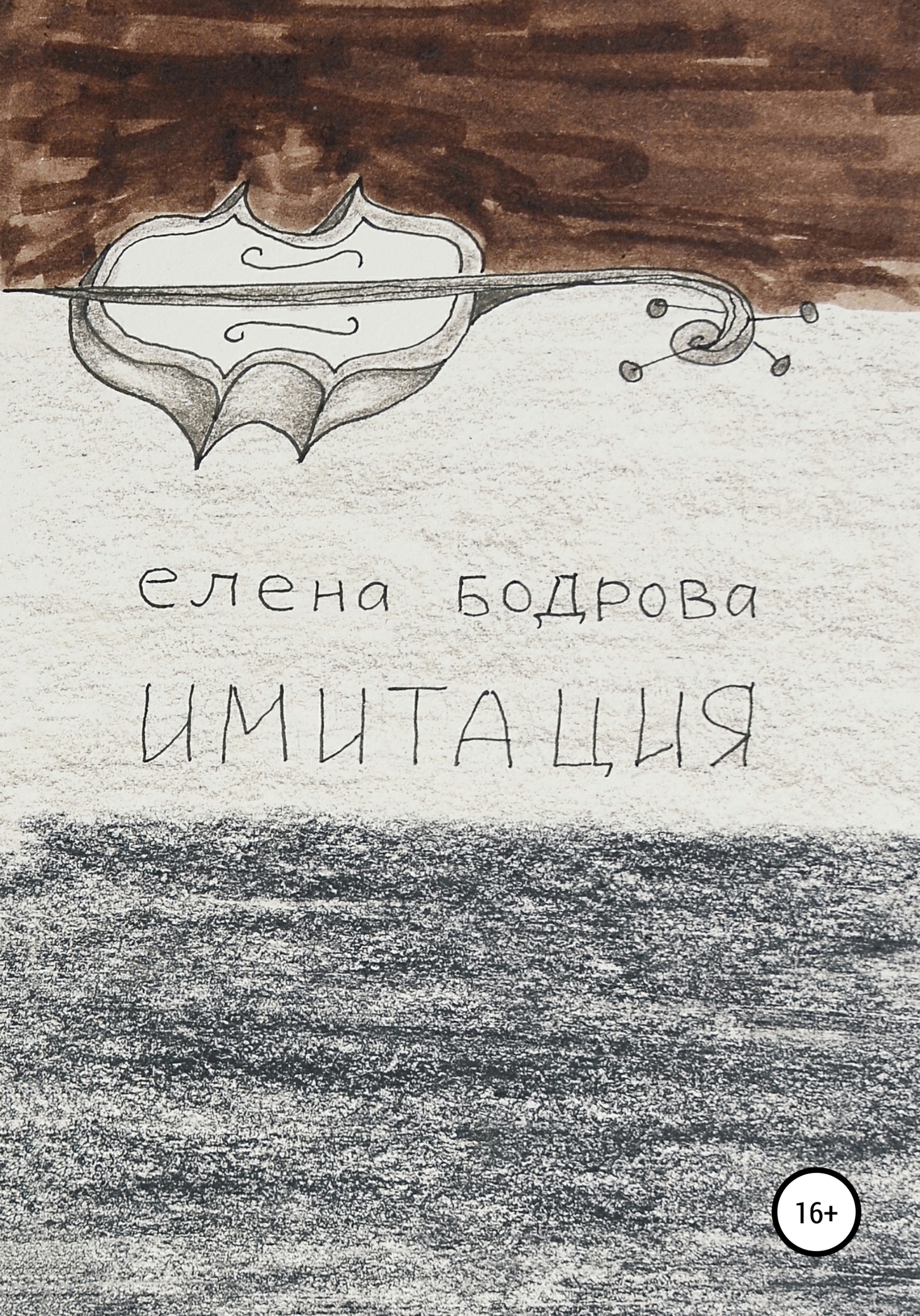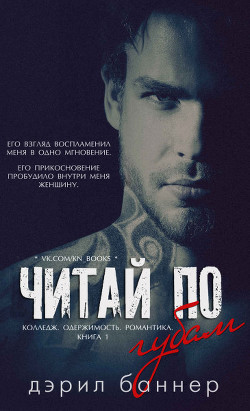пощупать пульс, то ли тряхануть за рукав, чтобы привести в чувства. Смотрю на лицо, это его лицо, папино лицо. Я трясу за рукав, хватаю запястье, пытаюсь нащупать пульс, снова трясу за рукав, хлопаю по плечу, по щеке – не сильно, чтобы не больно, шепчу, не переставая:
– Папа, папа, очнись, я нашел тебя, папа, тебя не было девять лет, но я нашел, кто же знал, что искать нужно здесь, на несуществующей улице, папа, очнись, три парня сейчас придут, очнись раньше, чем это случится, папа, спаси меня, папа вернись и спаси меня, папа…
У меня телефон. В кармане. Достаю. Слышу голоса рядом: три парня приближаются к нам с папой. Но я успею. Набираю номер скорой помощи.
– Алло, приезжайте, у меня папа нашелся, его не было девять лет, и теперь он лежит в снегу, скорее приезжайте.
– Адрес?
Озираюсь. Табличек нет.
– Приезжайте без адреса, – выпаливаю.
– Что за шутки, мальчик?
И кладут трубку. Решили, что шучу. Назвали меня мальчиком. Три парня уже совсем рядом. Папа в снегу. Его лицо пурпурное, то ли от света фонаря, то ли по другой причине.
– Папа, проснись, папа, вставай, папа, спаси, – шепчу.
Они подходят. Хочу спрятаться, но некуда. Они видят меня.
– Папа! – кричу.
Раздается телефонный звонок.
«Вызывает Папа». Нажимаю «ответить».
– Сынок, ты где? – слышу.
– Папа, я здесь, рядом! – кричу в трубку.
– Илья, мы потеряли тебя, ты где?
– Здесь!
– Сынок, найдись, пожалуйста. Мы, я и мама, очень ждем тебя.
– Я здесь! – кричу и смотрю на папу в снегу. Почему-то он далеко. Снова далеко, я не вижу лица. Почему? Я не двигался с места.
Три парня приближаются, но медленно, как во сне, идут и идут, но никак не дойдут.
– Илья, вернись.
– Папа, спаси.
– Илья, Илья, Илья… – словно заело. Имя повторяется одинаково, как в записи. Я смотрю на трубку. Она большая и тяжелая в моей детской руке… Детской?
Телефон выскальзывает и падает. Утопает в черной необъятной дыре, как в пасти чудовища. Это лужа. Надо достать телефон. Сую руку в воду, но не могу нащупать дна. В луже рука уже по локоть, но телефона нет, и дна нет, лужа как море, глубокая и черная, лужа, как небо без звезд, а я маленький, мне снова восемь.
– Папа!
Смотрю на черное пятно на белом снеге там, далеко. Оно неподвижно, оно – это папа. Рядом с ним стоят три парня. Что они задумали? Один оборачивается – тот, что посередине – оборачивается и улыбается мне. Он видит меня. Он идет ко мне. Моя рука в луже по локоть. Почему-то не получается ее вытащить. Сейчас он перейдет дорогу, приблизится, я увижу его зубы совсем рядом, он что-то скажет мне, я не помню что, я не хочу помнить, мне неоткуда помнить, разве я встречал его раньше?
– Папа, спаси меня, – шепчу и гляжу на черное пятно в снегу.
– Папа не спасет, – с сожалением качает головой парень. Он уже здесь. От него затхло пахнет.
– Когда же я наконец проснусь? – спрашиваю у него. И повторяю вопрос. Раз за разом, повторяю и повторяю, повторяю и повторяю…
* * *
– Когда же я наконец проснусь? – и просыпаюсь от звука своего голоса. Сажусь на кровати. Обхватываю колени руками. Меня трясет, то ли от холода, то ли по другой причине. Замечаю, что приоткрыта форточка, хочу подняться и закрыть, но не поднимаюсь и не закрываю. Так и продолжаю сидеть, скрючившись над собственными коленями, завернутыми в одеяло.
– Я не сплю? На этот раз не сплю? – шепчу. Вижу часы: четыре утра. Утыкаюсь в одеяло лицом. Оно теплеет от моего дыхания, становится почти горячим.
Наконец разгибаюсь. Набираюсь смелости зайти в ванну и умыться ледяной водой. Вода разбудит, если я все еще сплю. Плещу на лицо, на затылок, пальцы с трудом сгибаются, побелели. Скидываю тапки, чтобы ощутить ступнями холод кафельной плитки. Щипаю себе руки до боли. Вода льется и льется, долго смотрю на прозрачную, изменчивую струю.
Не сплю.
И папы нет. Напоминаю себе: он мне приснился. Он не смотрел в черное небо – это только сон. Он не звонил мне и не просил вернуться, не просил найтись, не говорил, что они – он и мама – очень ждут меня.
Я не видел папу лежащим в снегу. Но вдруг все так и было? Вдруг папе стало плохо, он упал в снег и лежал на забытой всеми улице, где никто не найдет, никто не поможет?
Вернулся в постель. Залез под одеяло и долго не мог согреться. Дрожали челюсти, зубы стучали друг о друга, не получалось сомкнуть плотно, чтобы перестали.
* * *
После тяжелой ночи, серым убогим утром вновь набрал номер, подписанный «Папа». Выяснить, наконец, кто так пошутил. Узнать – и закрыть тему пропавшего и вернувшегося папы раз и навсегда.
Недоступен.
Позвонил еще раз. Недоступен.
* * *
– Да что с тобой такое сегодня? – кричит Ирина Павловна. – Играешь еще хуже, чем обычно! Кто будет слушать голоса в фуге? Я вместо тебя? Они звучат одновременно, но они равноправны! Каждый важен!
Молчу в ответ. Я пытаюсь. Я стараюсь, черт возьми!
– Что ты сказал? – оторопело пялит на меня круглые глаза Ирина Павловна.
Оказывается, я произнес это вслух.
– Пусть я средний исполнитель, но я делаю всё, что в моих силах. Лучше быть средним, чем не быть…
Я не договариваю, но так даже больше смысла.
– Всегда надо стремиться к лучшему! – раздраженно восклицает Ирина Павловна.
– Не всегда, – говорю я тихо. Не хочу препираться. Меня устраивает, когда я просто играю – не важно, средне или совсем плохо. Дайте мне просто играть! Это единственное, что лишает меня внутренней пустоты. Игра на фортепиано глушит пустоту. Не заполняет, но глушит. На время. Пока играешь. Дайте же мне, черт возьми, просто играть!
– Играй! – вскрикивает Ирина Павловна обижено и вылетает из кабинета. Значит, последнюю фразу я тоже произнес вслух.
И я играю. Полчаса играю, час. Ирина Павловна возвращается.
– Уходи, Королев. Сейчас следующий ученик придет, – унылым голосом сообщает она.
Я поднимаюсь со стула, собираю ноты.
– Не хочешь извиниться за свой тон? – спрашивает.
Я молча выхожу из кабинета.
* * *
Толкаю дверь, заглядываю внутрь.
– О, какой человек пришел! – Юрий Васильевич шаркает мне навстречу, улыбается. Я захожу. Он, как всегда, берет стул и приставляет к пианино. Мы усаживаемся плечом к плечу, и впервые за это утро мне становится чуть легче. Словно я тащил на спине два тяжеленных мешка, а теперь остался только один – вот так легче. Не намного, но ощутимо.
– Полифония – это жизнь, – говорит Юрий Васильевич. Наверное, он замечает, что я не расположен разбирать фугу, не расположен задавать вопросы, как я обычно задаю. В общем, ни к чему не расположен.
– Пробовал в людном месте услышать сразу все звуки, какие там есть?
Я мотаю головой.
– А это интересно, попробуй.