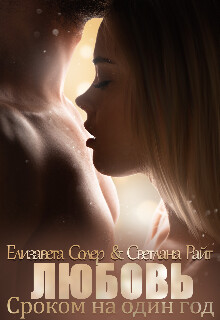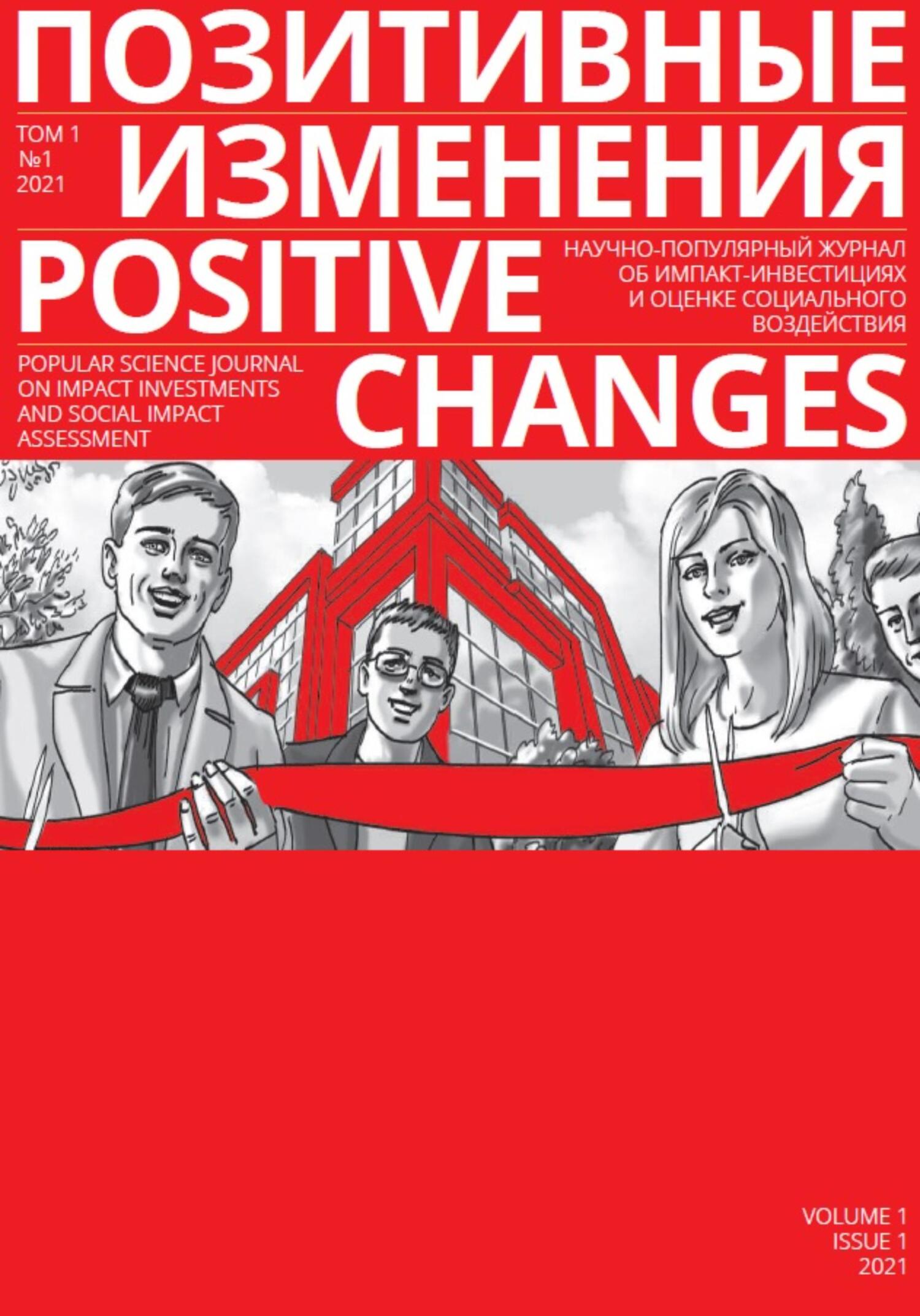ей делать в полиции? — удивился он. — У нас не происходило ничего противозаконного.
— Мне будет ее не хватать, — воскликнула она, сама не понимая, на самом ли деле имела это в виду. — Она открыла для меня совершенно новый мир.
Он залился своим привычным скрипучим смехом.
— Старый мир тоже достаточно хорош, — ответил он. — Я приеду за тобой завтра.
— Когда я вернусь домой, — медленно произнесла она, — у меня будет к тебе одна просьба, мне нужно кое-что узнать. Доктор Йёргенсен на днях заявил, — (или, может, это было десять лет назад — она не знала), — что не выносит пациентов, которые не способны смотреть правде в глаза.
— В этом наши мнения расходятся, — сказал он, — но я отвечу на твой вопрос совершенно честно, что бы это ни было.
— Спасибо, — поблагодарила она. — Как дела у Сёрена?
Она представила себе его маленькое состарившееся лицо, каким оно выглядело в последний раз за пыточной решеткой, — лицо истощенного ребенка из Индии.
— Хорошо, — сказал Герт, — он тоже по тебе скучает. Гитте вместо сказок пичкала его невразумительным сексуальным просвещением. Он соскучился по нашей прежней жизни — жизни до начала всего этого безумия. Но мы всё обсудим дома. Я куплю бутылку виски — отпразднуем.
— Спасибо, — ответила она. — Я рада, что ты приедешь за мной.
Возвращаясь в палату, она потуже затянула пояс красного клетчатого халата, слишком просторного для нее. Казалось, ей перелили кровь от неизвестного донора. Нормальная жизнь со всеми ее трудностями и радостями мерно текла в жилах, и когда художница остановила ее в коридоре, она громко и четко заявила:
— Вы правы. Меня зовут Лизе Мундус. Завтра меня выписывают, и я приступаю к новой книге.
Искусственный свет опередил звезды. Теплый и позолоченный, он заливался под веки, просачивался сквозь поры в коже и попадал в кровь, где расходился сетью по воспоминаниям и нежно касался полузабытых событий. Они пересекали Ратушную площадь, лицо Герта то затемнялось, то подсвечивалось светом от мерцающей световой рекламы, которая всегда оставалась неизменной.
— Когда мне было семнадцать, — начала она, просовывая руку под его локоть, — я стояла перед зданием редакции «Берлингске Тиденде» и ждала парня, который так и не пришел. Я плелась домой, и будущее казалось серым и промозглым, как дома́ на Вестерброгаде.
— Хрупкий возраст, — ласково ответил он. — Насколько мне известно, Ханне готовит что-то особенное. Она хочет отпраздновать твое возвращение. Ей полегчало оттого, что Гитте ушла. Она терпеть ее не могла и по непонятной причине побаивалась ее.
Лизе уступила дорогу незрячему мужчине, который нащупывал тростью край тротуара. Его проникновенное и внимательное лицо казалось далеким, обращенным внутрь, и не было никакой необходимости брать его на себя. Все лица в этот синий и недолгий сумеречный час проходили сквозь нее без труда, будто сквозь солнечный луч; некоторые забирали с собой других, словно отвлекая внимание. Ее голова казалась прозрачной и легкой, как быстрые шаги, что улица уносила с собой.
— Ты по ней не скучаешь? — спросила она и неожиданно для себя увидела мелкое лицо за переговорной решеткой, мстительное и одинокое.
— Уже много лет подряд я не скучал ни по кому, кроме тебя, — ответил он с тревогой и прижал ее руку к себе еще крепче.
— Может, зайдем куда-нибудь и выпьем, прежде чем возвращаться домой? — неожиданно предложила Лизе. Ее бесконечно пугала мысль о том, чтобы снова войти в гостиную — всё равно что в детство, которое никогда ей не принадлежало.
— Да, давай, — послушно согласился он. — Можем заглянуть в «Жемчужину».
Это была небольшая грязная пивнушка, куда они раньше часто отправлялись под конец дня, уложив детей спать. На непокрытом столе остались круги от пивных бокалов, в глубине зала каменщики в рабочей форме играли в бильярд.
— Два двойных виски, — заказал он ленивой официантке, которая нехотя оторвалась от общества каменщиков. Казалось, она их не узнала. В одному глазу у нее лопнул капилляр, кожа казалась серой и пористой, словно стирательная резинка. Жалюзи были опущены, горела настольная лампа. В пергаментном абажуре красовалась дырка — будто пьяный посетитель пырнул его ножом. Ощущая, как виски течет по венам вместе с кровью, Лизе посмотрела на батарею под окном: оттуда доносился легкий шум, словно верещание птахи на ветке.
— Какой сейчас месяц? — спросила она.
— Середина марта, — ответил Герт, — ты провела в больнице три недели. Кстати, почему ты наглоталась этих таблеток?
— Потому что Гитте их оставила, — сказала она, — хотя ты и просил спрятать.
— Ничего подобного! — воскликнул он. — Мы не разговаривали с ней об этом.
— Значит, она обманула меня, — ответила Лизе. — Она сказала, ты беспокоился, что я поступлю как Грете.
— С ней, — сказал он, рассеянно держа стакан на свету, — я совершил ошибку, пробудив чувства, на которые не мог ответить взаимностью. Кстати, какую такую правду ты хотела узнать?
— Не сейчас и не здесь. Попозже, — ответила она.
Легкое опьянение затуманило его лицо: зрачки увеличились, как у сонно моргающих на свету детей, когда их разбудят от очередного ночного кошмара.
— Иногда, — медленно произнесла она, — сделав что-то другому человеку, ты уже никогда не будешь прежним. И делаешь это ради собственного спасения. И то, что когда-то казалось тебе самым важным, больше не имеет для тебя никакого значения.
— Верно, — согласился он, отпив последний глоток. — Но это едва ли относится к тебе. Больших грехов за тобой никогда не водилось.
На мгновение ее разозлила невинность его представлений о ней, хотя ей желалось, чтобы именно так думали о ней окружающие. Даже если бы она проявила свое равнодушие и эгоизм и рассказала ему, что происходило за пыточной решеткой в ванной комнате, эта действительность не стала бы для него реальной, какой была для нее целую вечность.
Кто-то бросил монетку в музыкальный автомат, и женский голос гнусаво затянул:
Он пришел летом,
Солнце сияло.
Он дал мне клятву
И очаровал… [10]
Остальная часть песни утонула в шуме играющих в бильярд каменщиков, но простая чувственная мелодия пробудила воспоминание. Это была одна из пластинок, которую постоянно ставили Могенс и Гитте. Та самая, которую она остановила, когда к ней в гости пришла Надя.
— Как Могенс переживает уход Гитте? — поинтересовалась она.
— Немного грустит. Думаю, сглупил и увлекся ею. Несложно вскружить голову такому парню. Еще и все эти ее дурацкие проповеди о любви к ближнему. Он купился на всё это, хотя на деле она сама не способна полюбить и кошку.
Он неловко положил руку на ее кисть, и теплота, исходящая от него, пробежала по всему телу.