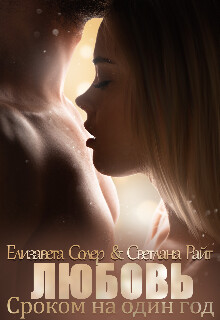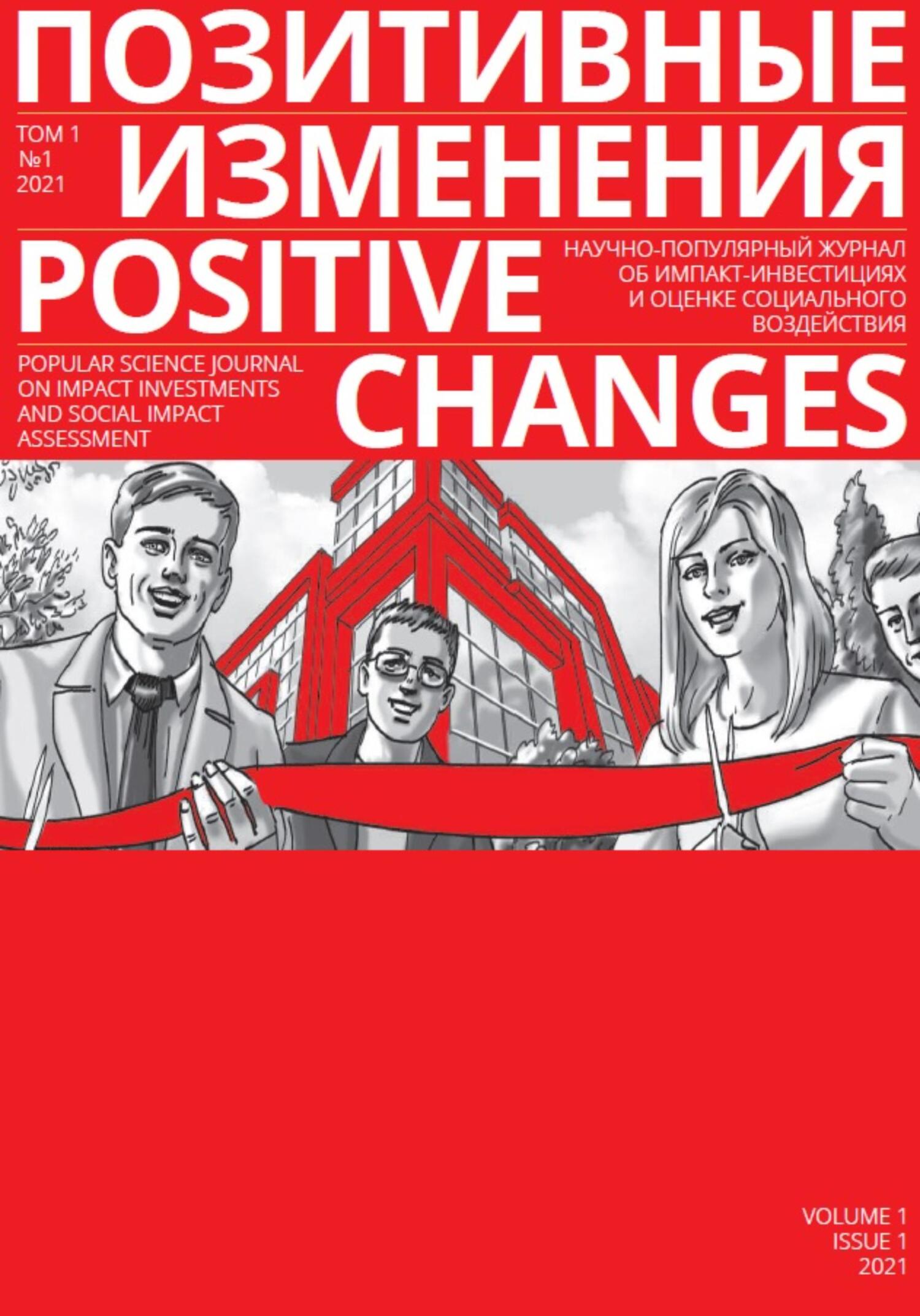class="p1">— Я люблю тебя, — прямо сказал он. — Ты сможешь простить мне, что я бросил тебя?
— Я тоже тебя бросила, — ответила она. — Меня не интересовало ничего, кроме моих дурацких книг.
— Совсем не дурацких, — тепло ответил он. — В учебнике Ханне я увидел твою сказку, а еще одно стихотворение.
— У меня никогда не получалось писать достаточно хорошо. Я могу писать только для детей.
— Может, это требует большего мастерства, чем книги для взрослых.
Она уставилась на его лицо с вертикальными бороздками на щеках и обвисшей тонкой кожей. Его опечаленные губы коснулись ее, словно кончик пальца дотронулся до сердца.
Любовь распростерлась между ними — такая уязвимая, словно натянутый кусок марли. Она прекрасно понимала: долго это не продлится. Ненависть, обиды, равнодушие и эгоизм вернутся, как старые верные приятели, и им никак не докажешь, что здесь их никто не ждал. Как только ее снова поглотит писательство, им завладеет демон зависти, и он снова почувствует себя исключенным из ее маленького мирка, словно начерченного мелом, которым она однажды обвела свои ноги на школьном дворе: наступишь на линию — и выбываешь из игры. И если бы она сейчас отреклась от этого и начала любить его, то его месть ударила бы по ее незащищенному сердцу. И всё равно — под ласковым взглядом его темных глаз ее пронизало знакомое ощущение счастья.
— Пойдем домой, — предложила она. — Не хочется заставлять их долго ждать ужина.
— Да, — согласился он и позвал официантку, и пока платил, до нее из батареи донесся далекий злорадный смех. Может, ей померещилось, ведь она выздоровела.
Был холодный вечер, дул ветер, по пути домой Герт обнимал ее за плечи.
— Между прочим, у Ханне появился молодой человек, он уже в гимназии, — сообщил он. — Я видел его несколько раз: очень милый парень.
Ей показалось, что он произнес это с напыщенным равнодушием, и услышала равнодушный голос Ханне, такой же, как из громкоговорителя в подушке.
— Давно пора, — ответила она, — теперь ей можно жить своей собственной жизнью.
Она лежала, прижавшись лицом к его угловатому плечу: от него резко пахло свежескошенной травой. Он нежно обвел пальцем купидонов лук ее губ.
— Давай начнем всё сначала, — предложил он. — Давай забудем всё плохое, что было между нами.
Они провели уютный вечер с детьми: их лица висели на своих местах, как картины на стенах. На щеке Сёрена до сих пор виднелся след после взрыва на уроке физики. Шрам останется навсегда: память о склянке с серной кислотой ей придется хранить вместе с голосами и лицами из ванной комнаты.
— Я пережила кризис, — призналась она. — Я осознала, что нельзя отворачиваться от страданий людей в мире.
— Ох, и тебе Гитте умудрилась вбить это в голову, — улыбаясь, ответил он. — Но знаешь что? Больше геройства в том, чтобы печься о мозолях соседа, чем о населении Конго. Я имею в виду Альберта Швейцера. Уверен, что на улицах Страсбурга было немало страждущих, но он не получил бы всемирную известность, помогая им.
— А как же война во Вьетнаме, — неуверенно произнесла она, — и пострадавшие от бомб дети?
— Займись для начала собственными детьми, — серьезно ответил он. — Я тебя совершенно не корю, но в последнее время ты забросила их.
— Мне очень хочется написать книгу для взрослых, — серьезно ответила она.
— Напиши. Уверен, у тебя получится.
Неожиданно стена немного накренилась вовнутрь, и она придержала ее рукой. Ей снова послышался детский голосок Ханне, полный обиды: «Ненавижу твои мерзкие романы».
— Ответь мне на один вопрос, — попросила она.
— Хорошо.
Его пальцы скользили по ее длинным волосам, от чего возникло мимолетное ощущение, что ее лицо меняется и становится старым и сморщенным, как у Сёрена за пыточной решеткой.
— Между тобой и Ханне что-нибудь было? — пугливо спросила она. — Я всего лишь хочу знать правду.
По-прежнему пропуская ее волосы меж пальцев, он ответил спокойно, почти равнодушно.
— Правда — она, Лизе, немного досаждает. Как заусенец. Ты знаешь хоть кого-то, кто извлек из правды пользу?
— Нет.
Неожиданно правда стала для нее совершенно безразличной и второстепенной. В ее восприимчивом сознании потянулись длинные предложения. Утром она начнет писать и заботиться о детях. Кроме того, безумно важно научиться печь белый хлеб. А те, кто желает тревожиться о целом мире, смогут делать это и дальше.
Герт выключил свет, и она с довольным вздохом прижалась к нему теснее.
— Интересно, куда подалась Гитте? — сонно произнесла она.
— Кажется, в кибуц, — ответил он, — она ведь постоянно об этом твердила.
— Да, — только и ответила Лизе, подумав, что знала это из зарешеточных разговоров. Насколько она помнила, Гитте раньше никогда не упоминала об этом до того, как она не попала в больницу. Что же было настоящим и ненастоящим в этом мире? Нет ли болезни в том, что люди готовы заботиться только о себе? Весь этот хаос голосов, лиц и воспоминаний — люди отваживались только на то, чтобы те по каплям просачивались наружу, и никогда не знали, удастся ли их снова поймать.
— Завтра я снова начну писать, — сказала она.
Но он уже спал.
Перевод Анны Рахманько
Редакторка: Ольга Дергачева
Корректорки: Анастасия Сонина, Полина Пронина
Верстка: Александра Корсакова
Дизайн обложки: Влада Мяконькина
Техническая редакторка: Лайма Андерсон
Издательница: Александра Шадрина
no-kidding.ru
Идею народных школ для крестьян, а позже и для рабочих предложил датский теолог и философ Николай Фредерик Северин Грундтвиг в 1830-х годах. Равенство, в том числе и полов, было одним из базовых принципов образования в таких школах. Это одни из первых высших учебных заведений, куда стали принимать девушек. — Здесь и далее приводятся примечания переводчицы.
Именно белый хлеб в Дании было принято считать символом домашнего очага и уюта — по сути, элементом скандинавского хюгге.
Парк в Копенгагене.
В отряд «Волки» обычно принимали детей восьми-девяти лет.
В Дании постоянно печатали одно и то же изображение улицы Троммельсаль, ставшее синонимом безвкусицы.
Один из старейших и самых престижных санаториев Дании.
Самый известный в Копенгагене дом-убежище для женщин, пострадавших от насилия. Существует с 1902 года.
Стихотворение «Потеря» (Ved et tab) датского поэта Людвига Бедкера (1793–1874).
Свою любовь я встретил среди плакучих ив; / Легка ее походка и чуден форм извив. /