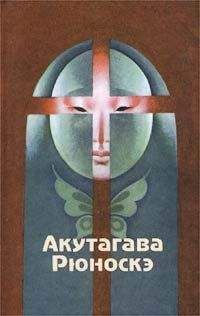«Неужели так забивает, притупляет жизнь?» — спросил он себя и тут же вспомнил, что Ольга ждет его и что ему предстоит выполнить трудную задачу.
Что же, собственно, надо было делать? Выйти из своей засады, напугать до полусмерти эту и без того уже напуганную женщину? Видеть ее ужас, ее горе, слышать ее мольбы и… Что же дальше? Отнять у нее эту дрянь, набрать которую стоило ей столько трудов, обвинить ее в краже, лишить ее тепла и, может быть, лишить горячей пищи ее детей, таких же худых и запуганных, как она?
Женщина продолжала кормить ребенка и в то же время тревожно оглядывалась по сторонам.
«Подойти, пристыдить, пригрозить даже, а потом простить?» — подумал Николай Иванович и тут же возмутился, до того лживой и бессмысленной показалась ему эта сцена. К тому же одна мысль, что появление его, несомненно, вызовет у этой кормящей женщины испуг, почти ужас, стала ему настолько невыносима, что он забыл свою решимость достойно выполнить возложенную на него обязанность и — отступил. Щурясь и поминутно поправляя очки, осторожно шагал он, пробираясь среди кустов и деревьев; он прятался за стволы и останавливался, оглядываясь на сидящую женщину. Когда под ногой его слабо хрустнул вереск, он сразу пригнулся к земле, на лице его отразился испуг, а в груди сильно забилось сердце.
«Боже мой! — невольно подумал он, — кто же вор? Я ли боюсь этой женщины, или она боится меня?»
Когда Николай Иванович сообразил, что ушел достаточно далеко, он наконец выпрямился, облегченно вздохнул полной грудью и быстро зашагал по направлению к своему экипажу.
— Ну, что? — спросила Ольга Ивановна.
— Никого! — храбро ответил он. — Я исходил всю эту часть леса. Тебе показалось.
Она пытливо глянула ему в лицо, он хотел ответить ей прямым, откровенным взглядом, но покраснел и смешался.
Когда Николай Иванович уселся на свое место, Ольга передала ему вожжи, лошадь фыркнула, тряхнула головой и пошла крупным шагом. Наступило неловкое, напряженное молчание, а из лесу, со стороны оврага, отчетливо раздались короткие, гулкие удары топора.
— Ну, Ольга, — сказал Николай Иванович, чувствуя, что его ложь не удалась, — я не имел мужества… Духу у меня не хватило… Женщина, понимаешь ли, больная, нищая… Женщина с ребенком…
Он опять покраснел.
Ольга Ивановна заметила это; она подумала, что брату стыдно и неловко за свою сентиментальность и ложь. Она ласково заглянула ему в глаза и засмеялась.
— Ничего, Коля, ничего, — успокоила она его. — Все дело, конечно, только в привычке.
Шел первый час ночи. В большой зале третьего класса, тускло освещенной газовыми рожками, было людно: спали на лавках, спали растянувшись на полу и подложив под голову туго набитый холщовый мешок. То и дело отворялись и хлопали двери, пропуская клубы холодного воздуха. Кругом слышалось движение, снаружи доносились свистки паровоза и мерный стук то приближающихся, то вновь удаляющихся колес; раздавались голоса. Вот снова хлопнула дверь, и теперь уже в самой зале задребезжал и залился звонок.
— Батюшки! нам, что ли? — спросила женщина и бестолково засуетилась, поправляя на себе платок и хватаясь кругом за что попало. Она спала на полу, рядом с ней, увернутый в лохмотья, лежал маленький ребенок.
— Постой, тетка, не торопись, — обратился к ней с лавки молодой парень, франтоватый по-приказчичьи, с некрасивым самоуверенным лицом. — Ишь ты, проворная какая! Сказано тебе, нам тут почитай до свету сидеть.
— Ох, родимый, как бы не пропустить. Спросить бы разве?
— Чего спрашивать-то? ведь и то говорят тебе. В одно место едем, чего же тебе вперед-то соваться.
— Да ты верно знаешь-то? — спросила баба.
— Уж верно. Сами едем, чего ж тут.
Он достал из кармана скомканную папиросу, расправил ее, нащупал там же спичку и стал чиркать ей о стену.
— Ишь у тебя там какой простор, — заговорил он опять, раскуривая и потягиваясь на лавке, — а у меня здесь не повернись. — Баба сидела на полу, и лицо ее, сперва испуганное, теперь успокоилось и приняло сосредоточенное, тупое выражение.
— Оно ничего, просторно, — ответила она, — несет только по полу-то. Прозябла.
— Ничего, в вагоне согреешься. Опять небось под лавками лазить будешь. Зайцем. Ловко! И распотешила ты народ, когда у тебя ребенок там запищал. Животики надорвал! Кричит, а тут — «билеты пожалуйте». И как тот только не догадался, удивленье!
— Может, и догадался, да так, добрая душа. Ведь и у кондукторов душа есть, братцы, — отозвался старик, сосед по лавке. — Куда едешь-то, тетка?
— В Москву, — задумчиво ответила баба.
— Из голодных мест, что ли? На заработки?
— В мамки хочу. Вот ребеночек-то мой; его в казенный дом определю, а сама в мамки. — Она глубоко вздохнула, подперла подбородок рукой и задумалась. Парень сплюнул и весело засмеялся.
— Ишь голодные-то вы, голодные, а ребят незаконных в казенные дома возите, — насмешливо заметил он и прищурился. — Что ж, ты ничего… Я тебя с вечеру заприметил. Закорузла только больно.
Баба заволновалась. Губы ее зажевали, а глаза глянули испуганно.
— Ничего! в городе отмоешься. В мамках житье хорошее; меня к себе в гости позови. — Он расхохотался, но она не ответила ни слова и продолжала смотреть перед собой во все глаза.
— Вдова, что ли? — окликнул ее старик.
— Вдова.
— Плохо у вас этим годом?
— Вот как плохо! нет ничего, — ответила баба и опять вздохнула.
— Прогневался бог! — заключил старик и, охая, повернулся на жесткой скамье.
— Двое их еще, старшеньких-то, — тихо заговорила баба. — Господи боже мой, как тут без отца кормить-поить? Семья у нас большая, неделеные мы; всякий о своем и радеет, а сиротки кому нужны?
— Старики, что ли, живы?
— Старики. Свекор ничего, а свекровь… «Выгоню, говорит, и с детьми». А чем младенцы виноваты? И с чего это, дедушка, у людей такое лютое сердце бывает? Человека готовы со свету сжить, жалости нет никакой.
— Ты, тетка, меня попроси, я тебя пожалею, — опять засмеялся парень, — я добрый. Не веришь?
Баба покосилась в его сторону и смолкла.
— Плохо, плохо! — заговорила она опять, как бы про себя. — Все бедность наша. Прежние годы не богато жили, да нужды такой не видали. Поглядел бы покойник-то мой… Скотинки ничего не осталось. Не продали бы — все равно к весне бы подохла.
— Знакомые дела! — сказал старик, — где теперь лучше-то?
— Везде плохо, везде! — вздохнула баба. — Ты сам-то кто будешь?
— Я-то? извозом занимаюсь. Тоже не веселят дела… Лошадей-то почем продавали?
— Даром, почесть даром отдали. А лошадь какая была!
Парень опять стал чиркать спичкой о стену.
— Тетка, а тетка! что ж, в гости кликнешь меня, что ли?
— Все продали, все проели. С горя, что ли, свекровь зверь зверем ходит. Намедни подходит ко мне Машутка, это дочка моя, «мама, говорит, отломи мне кусочек корочки, бабушка не дает, а мне больно есть хочется». Жалко мне девчонку; оглянулась, никого в избе нет, только мы с Машуткой; подошла это я к столу, отрезала махонький кусочек хлебца, сую Машутке, говорю: «Спрячь, не равно бабка увидит, еще забранит». Машутка хлеб схватила, даже глазенки у нее просияли, держит, трясется…
Баба остановилась. Увидала ли она мысленно свою девочку, радостную, с куском хлеба в руках, отдыхала ли она на этом видении или трудно было ей сказать, что стало с Машуткой дальше, только она опустила голову, и слезы полились по ее лицу.
— Увидали, отняли, — добавила она. — Семка на печке был, подсмотрел, свекровь в дверь, а он ей кричит: «Бабушка! тетка Марья хлеб ворует, Машутке скармливает. Ишь кусок у Машутки в руке зажат». Заплакала Машутка, закричала. Свекровь ее за плечи схватила, давай трясти: «Отдай, кричит, кусок, отдай!» Начала она ее бить, а у Машутки лицо белое, а хлеб она в руке держит, не отдает. Тут я свекрови в ноги упала: меня, говорю, бей, ребенка оставь. Что тебе ребенок сделал?
— Что ж? отняла? — спросил старик.
— Отняла, — тихо ответила баба и задумалась. — Мальчонок тоже на худой пище извелся, в чем душа держится! Махонький, не понимает: «Мама, говорит, мягкого хлебца хочу». А где его взять? Тем, у которых отцы, тем еще всего есть, а моих сироток трудно ли обидеть? Господи боже мой! где только у людей жалость? «Выгоню, говорит, с детьми. Объедаете только». А уж чего там объедать? сама недоешь, недопьешь, ребятам сунешь. Грудной-то плох, плох… То все кричал, а теперь и кричать перестал.
— Как же детей-то покинула? Не обидели бы без тебя хуже.
— Ох, покинула! — покачала головой баба. — Хоть глаза мои видеть не будут… Может, и пожалеет их бабка-то, как не будет у них матери, заговорит в ней жалость. Машутка, как я стала прощаться, так даже обмерла и ручонок ее развести не могут… Обвила мою шею, держится…
Она всхлипнула и утерла лицо рукой.