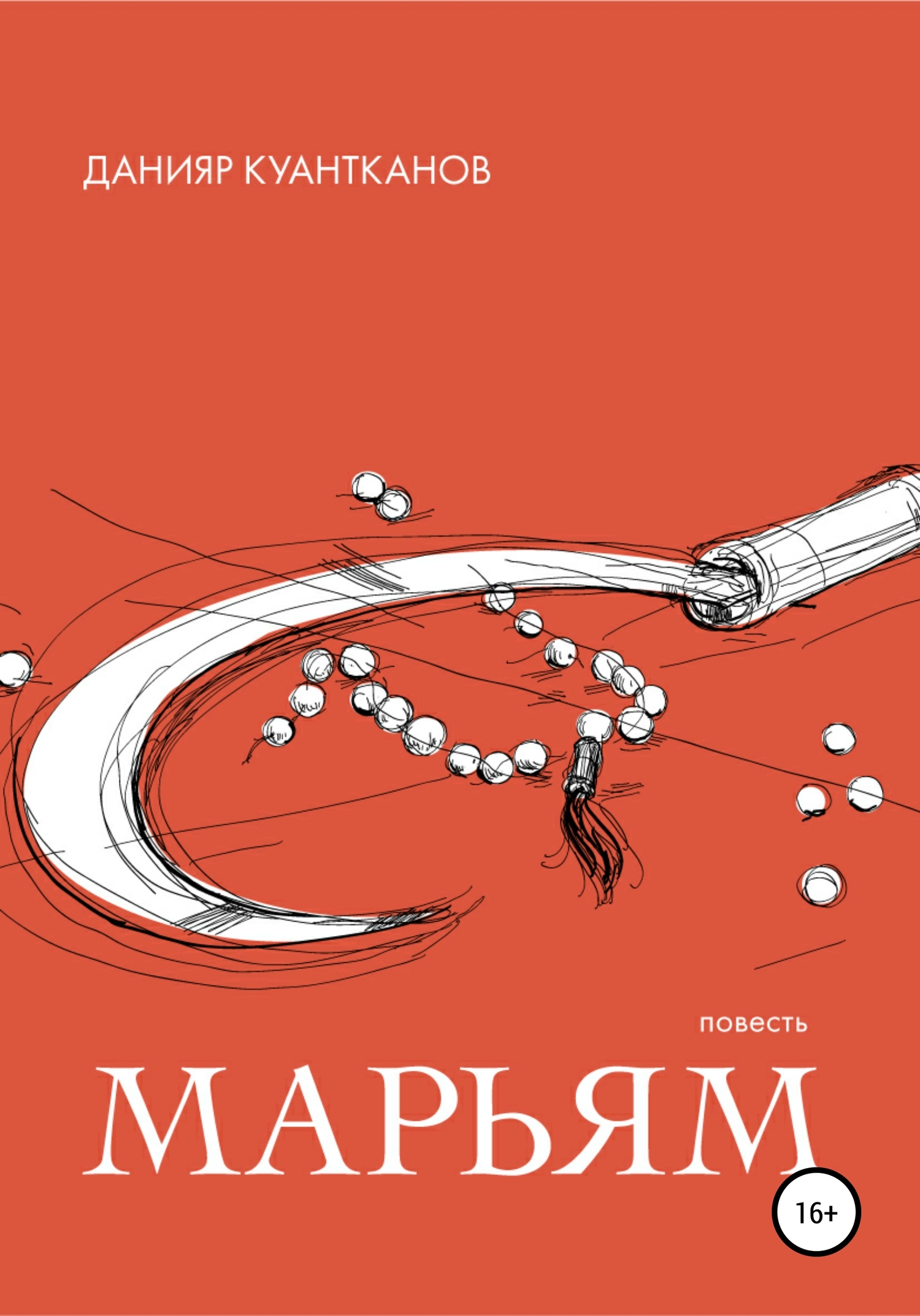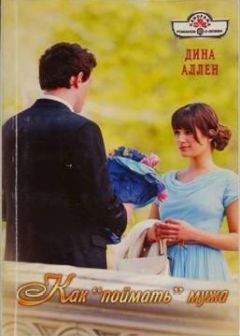независимости, уважения национальных традиций и религии чеченцы получили жесткий режим с чуждой их устоям социально-экономической системой. Вооруженные антисоветские выступления продолжались в Чечне вплоть до 1936 года, а в горных районах – и до самой войны. Как раз тогда Махмуд сумел устроиться простым охранником в районную милицию и неизвестно, как долго бы он носил форму, если бы не один случай.
– Махмуд, мы против этого. Ты же мусульманин, тем более работаешь в милиции. Объясни ты этим неверным, что это харам!
Махмуд латал крышу сарая, когда к нему пришел его знакомый Суламбек из соседнего села и, едва поздоровавшись, начал взволнованную речь.
– Постой, о чем ты говоришь? Объясни спокойно, – Махмуд отложил дела и стал внимательно слушать.
– Мы с женой ездили к ее родственникам в дальнее село в горах. И ее отец рассказал, что власти решили разводить у них свиней. Ты можешь себе это представить? – горячо продолжал тот.
Махмуд удивился:
– Как – свиней? А ты точно ничего не путаешь?
– Да я бы рад прямо сейчас сойти с ума, чтобы мои слова оказались болтовней ненормального. Но это правда!
Махмуд прикинул: то село находится далеко, следовательно, относится к другому району.
– Ты знаешь, как зовут начальника НКВД в том районе?
– Не знаю и знать не хочу. Зачем он мне сдался? Мы уже решили эту проблему по-своему. Я не об этом, Махмуд. Ты можешь поговорить с начальством, объяснить, что так нельзя делать? – искренне и наивно спросил Суламбек. – Почему они отнимают у людей овец, а разводить велят именно свиней? Оскорбить нас хотят?
У Махмуда округлились глаза, и он шепотом процедил сквозь зубы:
– Что значит «решили по-своему»? Что вы там сделали?
Он взял соседа за руку и быстро втащил его в дом, закрыв дверь, чтобы никто случайно не мог подслушать их разговор.
– Спокойней, спокойней, брат! – возмутился в прихожей «борец за правду». – Мы с местными джигитами просто отравили всех свиней и сожгли хлев. Даже и одного дня там не простоял! – смеясь, гордо добавил он.
«Робин Гуд» был значительно моложе Махмуда, и ему явно нравился образ героя-заступника. Махмуд почесал затылок, засунул руки в карманы и начал энергично ходить взад-вперед, придумывая, как он теперь сможет помочь выкрутиться своему земляку.
– Сколько вас было? – наконец спросил он.
– Семь или восемь человек местных, не больше.
– А кто-нибудь это видел?
– Так там почти все село собралось посмотреть. Керосин приносили…
– А ты знаешь, что тебя ждет теперь после этого? – громко, глядя в глаза Суламбеку, спросил Махмуд. – Что будет с твоими детьми, женой, когда тебя арестуют и отправят в тюрьму или расстреляют из-за каких-то вонючих свиней? Ты слышал, что я сказал «когда», а не «если»?
Суламбек осекся, однако по его выражению лица было видно, что он не сильно переживает по этому поводу.
– Ладно, – махнул рукой Махмуд. – Всем говори, что ты в эти дни ночевал у меня, помогал строить сарай. А я потолкую с другими сотрудниками милиции.
Он понимал, что это, скорее всего, не сработает, но другого выхода не видел.
Через несколько дней Суламбека и других участников акта сожжения хлева все же нашли и арестовали, однако им удалось каким-то образом сбежать. С помощью Махмуда Такаева или нет – история умалчивает, но после недолгого разбирательства Махмуда обвинили в пособничестве и осудили на 10 лет лагерей, как врага народа.
Атеистическая идеология и топорная практика большевиков по разжиганию социального конфликта внутри чеченского общества, пренебрежительное отношение к обычаям и грабительская продразверстка вызвали множество вспышек недовольства новой властью. В результате властью была организована откровенно абсурдная кампания борьбы с «буржуазно-националистическими и религиозными предрассудками, пережитками прошлого», а по существу – с традиционным укладом жизни вайнахов, их культурой и традициями.
Часто применялись очень жестокие методы. Чтобы население сдавало оружие, проводились казни старейшин, брались заложники, разрушались все дома в ауле. Репрессии проводились под знаком ликвидации так называемого «политического бандитизма» в Чечне.
Наказание Такаев отбывал в Коми АССР. Отправили его туда перед самой войной.
Двум его семьям, хоть им и помогали родственники, но с маленькими детьми на руках присматривать за хозяйством было нелегко. А как началась война – стало еще труднее.
От Махмуда письма приходили очень редко, в них он как мог, старался подбодрить своих жен. Ему тоже было тяжко, в особенности с рационом питания. Ведь еда в лагере – жиденькая баланда. А к ней для повышения калорийности полагался кусочек сала размером со спичечный коробок.
«Я – истинный мусульманин и ни в коем случае не стану есть свинину. Потому что это для нас страшный грех. А неудобства лагерные я как-нибудь переживу», – говорил Махмуд сам себе, настраиваясь терпеть долго.
– А ты кури больше. Так голод не чувствуется, – посоветовал ему как-то один из заключенных.
– Да я не курил никогда, – ответил ему Махмуд
– Тогда сдохнешь, и никто тебя не вспомнит, – заключил тот и, протянув руку, представился: – Виктор Савин, поэт.
– Махмуд Такаев, крестьянин, – в свою очередь ответил чеченец, не упоминая о работе в милиции.
Сдохнуть чеченец не боялся, а вот не увидеть более своих родных не входило в планы упрямого кавказца. Он решил обменивать это сало на махорку и научился много курить, чтобы заглушить чувство голода. Впоследствии, уже на свободе, он долго страдал болезнями легких, сгубив их в лагерях, выкашливал их кусками, от этого и умер.
– А еще попробуй сильно затягивать ремень на животе. Тоже помогает, – заговорщически шептал Савин.
Этот заключенный оказался поэтом и театральным драматургом. Горячий и активный, он постоянно писал что-то на клочках бумаги, манерно бубнил под нос стихи и говорил, что это помогает ему выживать и забываться на время. Творческий до мозга костей, Виктор Савин вечно искал в ком-нибудь поддержку своим поэтическим порывам. Суровый, сдержанный, а главное, молчаливый Махмуд как раз подходил на роль слушателя. Не все слова ему были понятны, но общий смысл вызывал в нем неподдельный интерес. Он пристально вглядывался в глаза этого энергичного парня, интересно описывающего свое прошлое. Ему было забавно наблюдать за непривычными для горца эмоциями и живой артикуляцией поэта.
Пусть чужбина и богата,
Все же дома лучше.
С каждым днем все неоглядней
Мать – землею тянет.
Пусть другая и нарядней,
Но родной не станет.
Вот я, наконец, и дома.
Счастлив и свободен.
– Знаешь, Махмуд, ведь я не русский, а коми, – почему-то тихо, как-то раз доверился он своему постоянному слушателю. – Я организовал первый в Коми театр на родном языке, ставил пьесы, я прославлял Советскую власть, а меня назвали национал-шовинистом. Обидно… Я хотел, чтобы мой народ мог читать лучших авторов русской и европейской литературы на языке коми. Вот скажи, ты бы хотел приобщиться к лучшим достижениям мировой культуры на своем языке?
Чеченец кивнул.
– Что тут плохого, правда ведь? – произнес Виктор и отвернулся. – Да, я сорвался… начал пить…