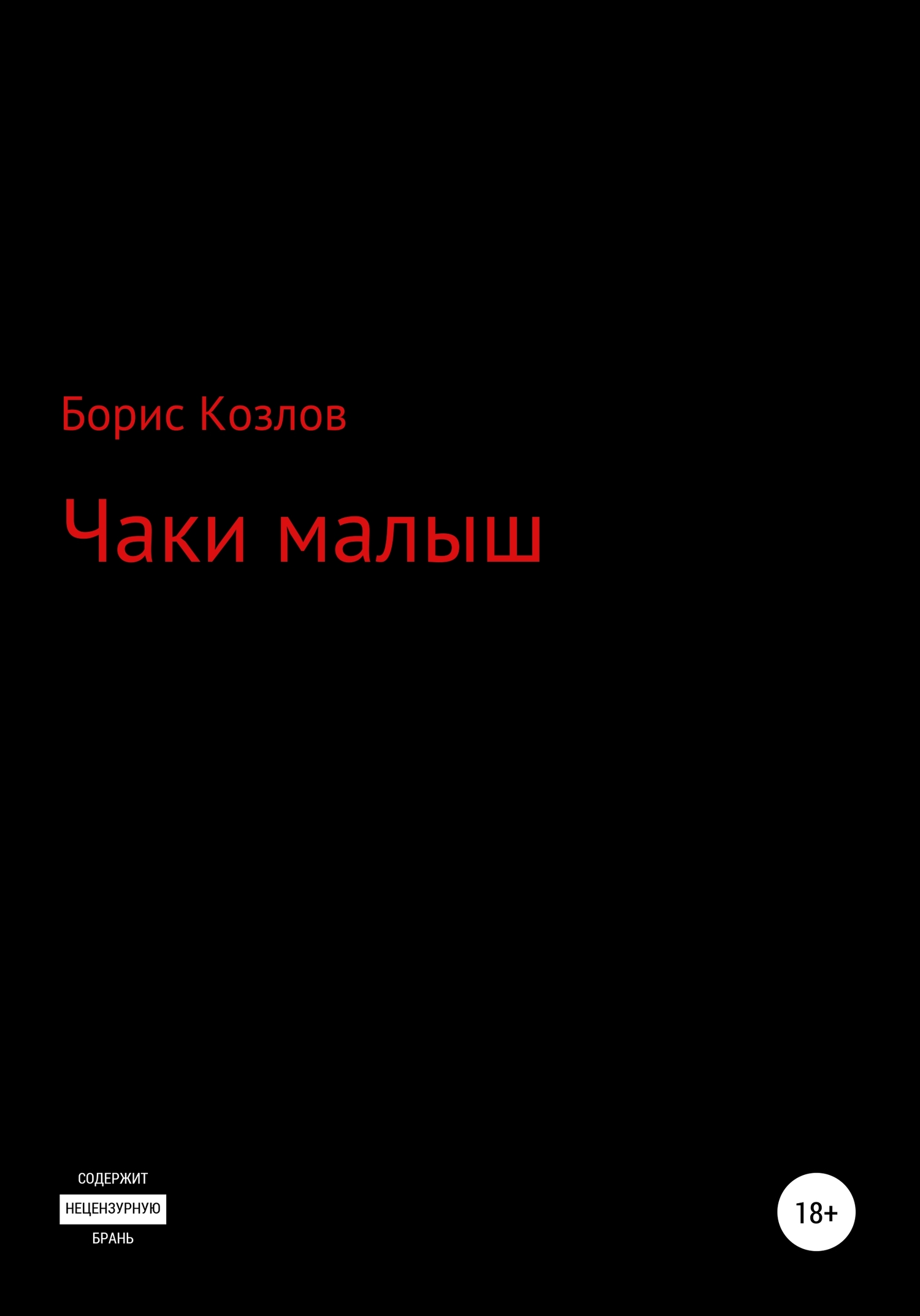нашёл ваш отец в этой женщине!”
Проводник просунул голову в приоткрытую дверь купе:
– Энск через час, вы просили предупредить.
Чаковцев с облегчением вынырнул из дрёмы (обе его жены, странным образом вместе, были там) и поднял воспаленные глаза; проводник, пожилой дядька, медлил у двери.
– Спасибо, – сказал Чаковцев.
– Я извиняюсь, лицо ваше уж очень мне знакомо, никак не припомню откуда.
Не подскажете?
– Понятия не имею, – буркнул Чаковцев, отворачиваясь.
Проводник не только не ушел, но ввалился в купе и без церемоний уселся напротив.
– Я вспомнил, – радостно сказал он, – в прошлом году вы со мной из Энска ехали.
У меня глаз – алмаз.
– Исключено, – вздохнул Чаковцев. – Никогда там не бывал, ни разу.
– Да ну… – огорчился проводник.
– А что, интересный город?
– Честно? Дыра дырой. При Союзе ящик там был…
– Ящик? – не понял Чаковцев.
– Ну да, почтовый, – пояснил проводник, – закрытый объект, все дела. Мы и не останавливались никогда, проезжали мимо.
– А теперь?
Проводник махнул рукой:
– А что теперь? Известное дело – разруха. Но станцию открыли, это да. Вы, извиняюсь, по каким делам в Энск – бизнес?
“Наконец кто-то принял меня за делового”, – подумал Чаковцев.
– Вроде того, – ответил он уклончиво, пытаясь уловить связь между “разрухой” и “бизнесом”.
– Как же, понимаю, коммерческая тайна, – ухмыльнулся проводник. – Ну, удачи вам.
Может, и обратно со мной поедете, если повезет. – С этими словами он удалился, зашумел в коридоре: – Энск, Энск, подъезжаем!
Чаковцев повертел на языке это самое “если повезет”, усмехнулся и принялся собираться.
Строго говоря, собирать было нечего – всё уже уместилось в средних размеров чемодане; прежние гастрольные времена воспитали в нём здоровую походную неприхотливость, жаль лишь, концертный костюм занимал половину полезного объема.
Тут он посмотрел с сомнением на недочитанную книжку – чужая ведь – и быстро сунул в чемодан: “Эта смешная вещица напомнит ему в странствиях о доме”. Гы-гы.
Между тем поезд замедлил темп, плавно съезжая с вечного русского на какой-то безродный, просто вечный. Слегка покачиваясь в такт, Чаковцев вышел к окну в коридоре. “Раллентандо”, – не без гордости вспомнил он красивое чужое слово для такого случая.
Страна, казавшаяся ему ночью морем, смотрелась теперь морским дном:
бурые бревенчатые постройки с пустыми окнами разбитых галеонов,
мачты-столбы с провисшей оснасткой проводов, ржавые якоря, оборванные цепи.
Где-то на поверхности суета и бурление, но не здесь; здесь покой – под толстым слоем придонного снега…
ЧАКИ УБИЙЦА
“Что за…” Он свернул набок шею, догоняя глазами отъехавшую надпись.
Нет, не показалось. Ярко-красная краска на облезлой стене вдоль путей, неровные буквы, последняя А плохо прорисована – ЧАКИ УБИЙЦА.
“Ну что ж, добро пожаловать в Энск, Геннадий Сергеевич”, – сказал Чаковцев вслух, когда сердце притормозило, а поезд и вовсе остановился, громко всхлипнув напоследок.
“В миру меня вы не ищите,
Теперь я человек-граффити
Размазало меня по стенам,
Увы, я сделался рефреном
И как-нибудь проездом в Энске
С восторгом скажете вы: “Бэнски!”
Город встретил его морозцем, запахом шашлыка и голосом Боба; звук шел от дальних лотков, зависал то и дело, спотыкался, будто подмерз на станционном сквозняке.
Чаковцев замедлил шаг, оглядываясь. Кто-то больно ткнулся в его спину и тут же выругался хрипло:
– Бля, раззява, да не стой ж ты на дороге!
Чаковцев обернулся и встретился взглядом с давешним мужиком из ресторана. Злое лицо того в секунду переменилось; бормоча “извините”, мужик разом ссутулился и быстро зашагал прочь, волоча пару тяжелых сумок. Чаковцев открыл от изумления рот: очевидно же, что хриплый испугался. Он не успел обдумать эту странность.
– Гена, брат!
Большой, розовощекий, сияющий, в распахнутой шубе до пят, – ни дать ни взять кустодиевский Шаляпин, – раскинув руки для обьятий, Боб Сташенко собственной значительной персоной надвигался на него.
– Здорово, брат.
– Здорово.
Они обнялись. Чаковцев втянул ноздрями воздух – вокруг Боба, как обычно, вилось плотное облако парфюма.
– Дай погляжу на тебя, бродяга, – громко сказал Сташенко. Говорить тихо он и не умел никогда. – Это ж сколько лет мы не виделись, а?
– Со счета сбился…
– Ну да, ну да. Как там у тебя… “нам бы время заморозить, распилить на кирпичи…”
– Это не у меня, Боб.
– А, неважно.
Чаковцев, посмеиваясь, разглядывал старого дружка:
– Ты чего с фейсом-то делаешь, юноша?
– А в спирте замачиваю, – заржал Сташенко, – и, по секрету, не только фейс. Щас познакомлю тебя кое с кем…
– Нравится тебе здесь? – Чаковцев кивнул в сторону лотков. – Вон как встречают.
– Да-а, помнят ещё, приятно, черт. Всегда любил провинцию. Ну, пойдем, что ли, а то синий ты какой-то, Гена, – замерз или с бодуна?
– Сам ты с бодуна, – огрызнулся Чаковцев, – год уже как сухой.
– Да ну? Круто. Ты извини, Гена, слыхал я о твоих печалях…
– Потом перетрём, Боб, после.
Они вошли в здание станции.
– Куда теперь? – спросил Чаковцев.
– Всё на мази, – Боб помахал кому-то рукой. – Пожрать и в гостиницу.
– Группа там?
– Ага, вчера подтянулись. Молодняк, ты их не знаешь. А вот…
Из глубины зала ожидания к ним подошли двое. Сташенко сказал:
– Знакомьтесь.
Чаковцев замер. Мужчина – крепыш в кожаной куртке, курчавые волосы, боксерский нос – производил моментальное и безошибочное впечатление бойцовой собаки, опасной и умной.
– Лев, – сказал он коротко, пожимая руку Чаковцева.
– Геннадий Сергеевич, – неожиданно для себя официально представился тот, – очень приятно.
Он заметил как Лев тут же отступил на шаг, всем видом показывая: я привык быть в тени.
Оттуда, из тени, он без спешки изучал Чаковцева – в этом не было сомнения.
– Лёва – наш местный ангел-хранитель, – пояснил Сташенко. – А это Блоха, моя бэк-вокалистка.
– Ты чурбан, – сказал Чаковцев Бобу, – даме представляют первой.
Очевидно юная, несмотря на вызывающий мэйкап, девушка была одета броско, но с несомненным, на любителя, вкусом. Она едва взглянула на него и тут же отвернулась, захлопнула длиннющие ресницы.
– Геннадий Сергеевич, – представился Чаковцев.
Боб захохотал:
– А ты и впрямь изменился, брат. Надо же, “Геннадий Сергеевич”…
– Блоха, – небрежно сказала девушка, едва раздвинув губы, протянула бледную руку. Чаковцев заметил тонкую вязь татуировки, теряющуюся под рукавом.
– Это сам великий Чаковцев, Блоха, – не унимался Боб, – по факту живой классик.
– Я знаю, кто он, – сказала Блоха и одарила Чаковцева улыбкой, такой же тонкой и ускользающей, как и тату.
О, эта последняя поросль лолит, они ранили его воображение особенно больно.
Чаковцев представил себе как и куда именно ведёт орнамент по руке – для первого знакомства, пожалуй, слишком отчетливо. Он кивнул Льву и тот моментально подхватил его чемодан – движением быстрым, но не услужливым, и зашагал к выходу.
Блоха протанцевала вслед на опасно свингующих каблуках. Боб придержал приятеля, выждал немного и спросил шепотом:
– Ну как?
Чаковцев ехидно посмотрел на его довольную рожу:
– Привлекут тебя, вот что, за совращение малолетних.
Сташенко расплылся:
– Я, Гена, паспорт посмотрел, я ж вроде как работодатель. И да, зависть – плохое чувство.
– Иди к черту, Боб. И почему Блоха? Прыгучая?
– Не-а.
Сташенко посмотрел по сторонам – не видит ли кто? – и отвернул ворот белоснежной сорочки.
– Еще вопросы есть?
– Нету, – вздохнул Чаковцев, разглядывая синяк на шее.
– А какой у неё голос, – закатил глаза Боб, – какой голос…
Чаковцев пытался уснуть. Он долго ворочался на тонком гостиничном матраце, и