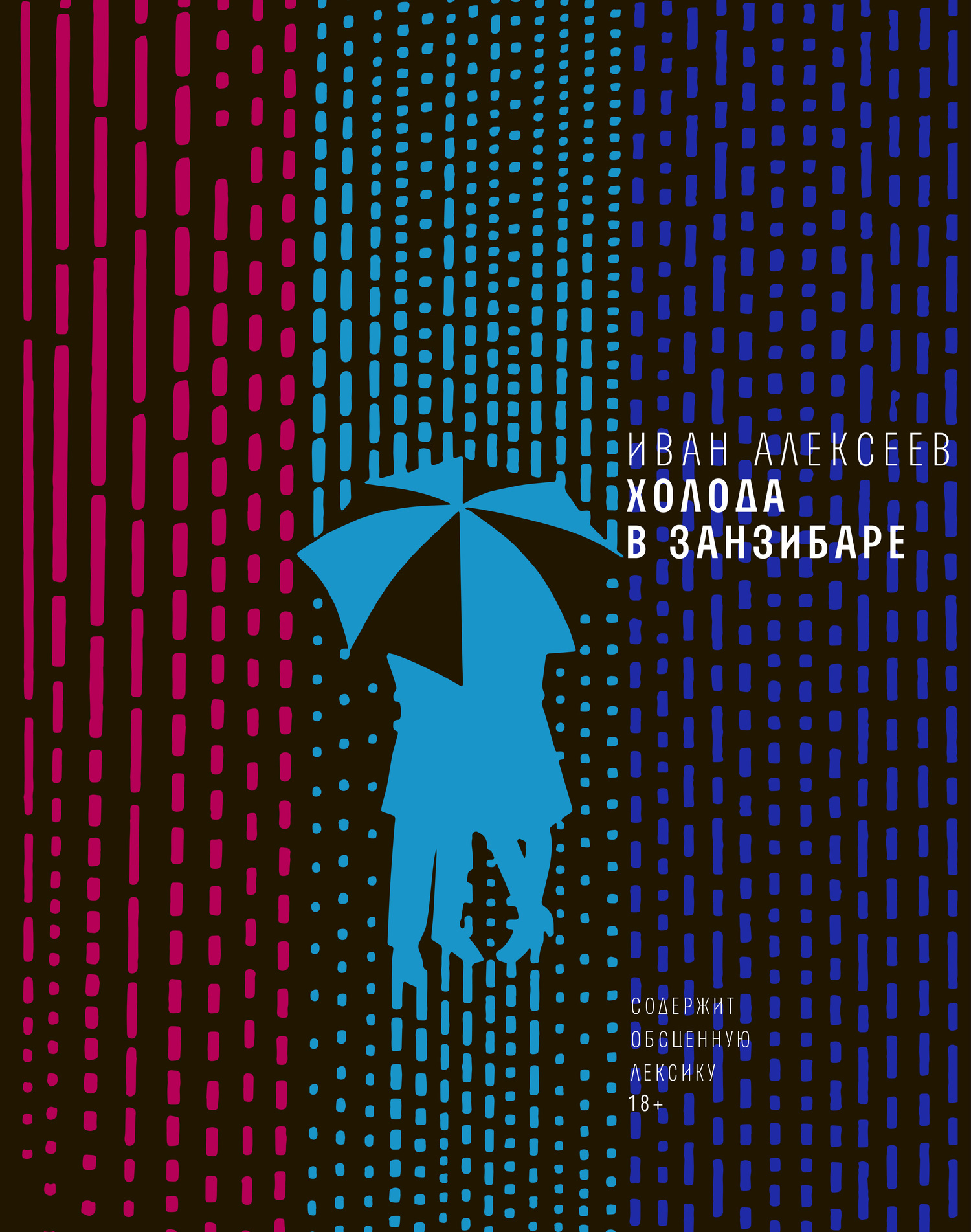Но что толку!
– Холодно! – сказал и как отрезал. И сколько мы его не просили, сколько не канючили – молчал, как фаршированная рыба, и посмеивался.
А после зимы что бывает? Правильно, дембель, приказ и весна. Все как полагается: пронеслось несколько метелей, и вдруг – пальто распахнуто, шапку долой, губа забита самоходами, ну и крыша у каптерки потекла: капля, упав на печку, превращалась в этакий шустрый заполошный шарик, который метался по раскаленной плите вот именно что как ошпаренный, как будто превратиться в пар ему было западло, и если иногда, представь, ему все-таки удавалось удрать, мы испытывали что-то вроде тихого торжества, потому, надо полагать, что, как ни пошл звук этого слова, свобода – всегда преодоление неизбежности.
Что мы понимали тогда в расставаниях? Ничего, ровным счетом ничего, на то и юность, чтобы жить сегодняшним днем и не задумываться о последствиях – а все же что-то царапало душонки, скребло: неизбежность расставания мы ощущали как собственную вину, и даже в глаза друг другу старались не заглядывать – отводили. Сеансы, как ты понимаешь, прекратились, на Валеру не «находило» и все, хоть ты тресни, Витя Писатель вечерами пропадал в Ленинской комнате, а при случайной встрече заикался пуще прежнего, прочие, не упомянутые мной поименно, коммандос и головорезы юго-восточных морей нашли, видимо, какие-то сухопутные занятия и не встречались мне даже случайно, я же увлекся игрой в буру с одноклассниками, хотя играл плохо, проигрывал, крал у родителей деньги и беспричинно им хамил. Словом, что-то происходило с нами, пока чернели и сходили все эти снега и набухали всякие там почки, а что – хоть лоб расшиби, ну не понимали! Только Гена Поляк как будто ничего не замечал, был, как всегда, спокоен, добродушен, приветлив – он теперь, под снисходительным руководством Валеры, учил английский, чтобы, как ты уже догадался, беспрепятственно общаться с туземками и туземцами – слово у него не расходилось с делом – и, показывая пальцем на пробегавшую мимо собаку, судорожно скривив полные губы, радостно восклицал:
– Э дог! – А чтобы обозначить ее половую принадлежность, пояснял: – Э герл!
Неудивительно, что в это кризисное время, когда я искал ответы на самые проклятые вопросы бытия, у меня произошло стремительное сближение с Витей Писателем и как-то, страшно волнуясь, он протянул мне свою знаменитую, в зеленой клеенке, огромную тетрадь с распушенными уголками.
– Вот, ста-аричок, п-па-ачитай.
Эх, Витя, Витя… Давай-ка выпьем за его здоровье, а может, и за упокой души. Фамилия у него была дурацкая – Ноздреватый, с такой фамилией, сам понимаешь, не прославишься, но все эти годы, открывая какой-нибудь журнал, я все ждал – а вдруг? Ладно, долгих лет ему жизни или пухом земля, один черт, – поехали!
Именно Витя своим искусством примирил меня с действительностью. Один из его рассказов, прочитанный мной на уроке химии, – о трогательной любви советского матроса к марсельской проститутке – заканчивался – привожу наизусть, дословно, – вот такой фразой героини, звали ее, кажется, Мадлен: жизнь, дружок, это тройное сальто, и прокрутить его надо так, чтобы не было мучительно больно, когда настанет время приземления, чтобы – загибаясь – ты мог сказать: я пытался прыгнуть выше и лучше других, и не моя вина, что вышло так, как вышло. Когда я прочитал это, мне, не улыбайся, открылась истина, разом объяснившая все. Доказывалась она элементарно, на раз, как какая-нибудь теорема о равенстве треугольников, стоило лишь выглянуть в уже распахнутое школьное окно, чтобы навсегда похерить всяческие сомнения. В этом окне мы имели: «а» – луг, подсыхающий, еще едва тронутый младенческой зеленью, с расставленными как попало, без всякой системы, резными миниатюрками коров; «b» – лес, по всем законам перспективы истончавшийся зубчатой лиловой дугой и заведомо сырой, прохладный внутри, у подножия которого, – невидимая – подмывая корни, перепрыгивая через поваленные стволы, шумела мутная, раздобревшая полой водой Пекша; «с» – небо, промытое, без единого облака, а в нем, с ревом и свистом, сбрасывая перед посадкой керосин, закладывал вираж «двадцать пятый» – клюв изогнут, живот как у гончей, втянут, на фонаре солнечный блик – до чего ж он был хорош, собака! Теперь доказательство: примем за икс химозу, длинноногую жену капитана, я, кажется, уже упоминал ее, которая, повернувшись к классу в полный профиль, постукивает по доске указкой, задумчиво смотрит в это самое окно и утверждает, что восстановитель отдает, а окислитель принимает электроны, потому что на самом деле первый – мужчина, а второй, то есть окислитель, – женщина, что, собственно, и требовалось доказать. И в перемену, высунувшись по пояс в то же окно, я грустно твердил, что жизнь – это тройное сальто, да, тройное сальто, и будущее, со всеми его расставаниями, утратами и прочими неприятностями, начинавшееся за капэпэ перестуком колес поезда и терявшееся в необозримой лазури юго-восточных морей, вдруг, буквально в какую-то минуту, перестало тревожить, представившись чем-то вроде толстой книги, где едва прочитано начало, но уже подсмотрен конец: после долгих лет странствий я все же возвращался на родную землю и, сходя по трапу, счастливо сощурясь на низкое, застрявшее промеж раскоряченных ног портового крана утреннее солнце, держал за руку раскосую Магдалину, мать моих будущих детей, выкупленную из борделя всего за полсотни гринов. Кризис, как в старину говаривали доктора, миновал, мы снова были вместе – Валера, Витя, Гена Поляк и прочая, для удобства изложения безымянная, коротко стриженная массовка: глаза настежь, души нараспашку, и вот я уже возвращаюсь со станции Навашино с рюкзаком водки (она, по просьбе командования части, из продажи в поселковом магазине к дембелю изымалась), ибо, согласно кодексу настоящих мужчин, расставание – всего лишь одна из разновидностей праздника.
Что это? Правильно, водка, не так чтобы очень хорошая, но и не скажешь, что плохая, скорее все-таки хорошая, верно? Та же была дремучего муромского разлива, «каленвал», прозванная так за чехарду букв на бледной этикетке и убойную силу, то есть самая обычная водка, которую пила тогда вся страна. А теперь представь старый, дребезжащий, с румяными склеротичными щечками пазик – это марка автобуса, в Москве на таких покойников возят на кладбище, – представь оборотившееся в салон зеркало и в нем рожу водителя в сизой похмельной щетине, билетов он не дает, но красным глазом ревниво оберегает растекшуюся по горячему дерматину капота мелочь. Представь, как из-за лесов, задвинутых к самому горизонту, выползают белые, с вмятинами синяков тучи и, постепенно набирая высоту, тянутся куда-то в сторону Волги, представь расчесанные ветром на пробор нежно-зеленые всходы черт знает чего – то ли овсов, то ли льнов, то ли ржей, и порядок охромевших домов, внезапно