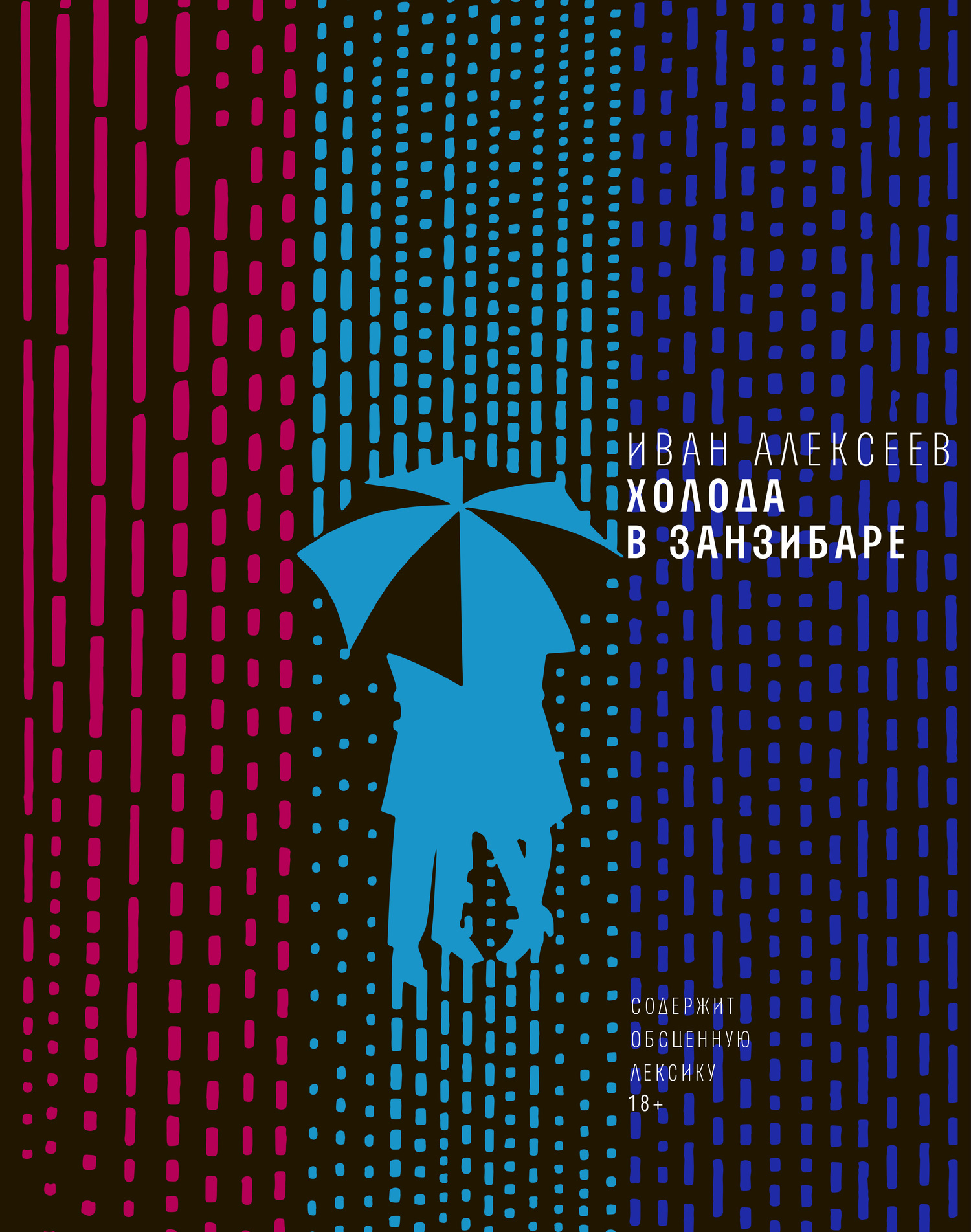дна реки и негромко лопнул. Но мы услышали:
– П-п-пномпень.
Да, дружище, – Пномпень, город, где солнце милостиво, ветры нежны, люди добры и приветливы, а по зеркальным водам бесшумно скользят длинные узкие лодки с тростниковыми навесами в корме.
Только Гена Поляк удивился:
– Пномпень?
– Да, господа юнкера, Пномпень, – подтвердил Валера.
– Почему? – простодушно спросил Гена.
– А потому, что только у девочек Пномпеня…
– Ну! – застонали мы, не выдержав паузы.
– …только у них! – половые губки трепещут, будто крылышки впервые взлетевшего птенца.
Вот что сказал тогда Валера, слово в слово, а потому изволь, голубчик, уж хотя бы пригубить, ибо находимся мы непосредственно в преддверии конца.
На удивление легко выдержав экзамен в авиационный институт, на шестой факультет, в конце лета я ненадолго съездил к родителям в гарнизон – отцу дали подполковника, а уже осенью поселился на улице Царева, в общежитии. Как и все провинциалы, оказавшиеся в Москве, первое время я ходил, втянув голову в плечи, от каждого встречного ожидал подвоха и находился в постоянной готовности дать отпор. Каким-то злосчастным образом в самом начале семестра я потерял студенческий билет, в деканат об этом заявить постеснялся, а в результате, не получив ни одного учебника, постепенно, ввиду полной бесперспективности, прекратил посещение занятий. На фиаско в учебе наложилось фиаско в любви: объект моего вожделения, некая Нина, белокожая и развязная, выкуривавшая на сачкодроме в один присест пачку сигарет и запросто пившая с нами водку из горлышка, на деле оказалась самых что ни на есть строгих правил. Как-то, после изнурительной ночи, когда, в очередной раз ничего не добившись, я, полный сомнений в себе и ненависти к ней, сидел на краю растерзанной кровати, Нина, оправив одежду – кажется, этот с бретельками крест-накрест сарафанчик из вылинявшего брезента назывался сафари – вдруг заявила, что, пощадив ее невинность, я выказал истинное мужское благородство и всякое такое, что она никогда этого не забудет и отныне считает себя моим должником. Неслабая постановочка вопроса? – а я, чтоб ты знал, месяц, если не больше, ломал голову, что с этим долгом делать и при каких обстоятельствах мог бы рассчитывать на его получение. Словом, куда ни кинь, всюду клин, настроение хуже некуда, выход один – смертельно заболеть, чтобы получить академ, иначе – армия, а на хрена мне она, если я в ней шестнадцать лет, считай, с самого рождения служил? И вот, ближе к зиме – у моей группы уже начались зачеты – родители пересылают мне письмо от Гены, а на конверте, между прочим, в графе «обратный адрес» указан Калининград. Вот так – ни убавить ни прибавить – Калининград! А мечта – она как субмарина в автономном плавании – вроде ее нет, а на самом деле она есть, и никуда не девалась, и может всплыть в любую минуту. Видел, как подлодка проламывает полярный лед? Вот то-то же! А Гена писал, что устроился в порту грузчиком, работа хоть и тяжелая, но позволяет вечерами совершенствоваться в английском, недоумевал по поводу того, что от нас ни слуху ни духу, но с присущим ему оптимизмом не терял надежды на скорую встречу. Веришь ли, но в ту же секунду, едва дочитал я до соловья и лета, в мозг будто раскаленное сверло вонзилось: зуб, причем самый мерзкий, мудрости, заболел так, что троллейбусы, пока я бежал, побивая все, какие только были тогда, олимпийские рекорды, отставали один за другим. С грехом пополам, разворотив челюсть и разорвав щеку, зуб мне вырвали, и боль прошла.
И вот, недели, может, через две, лунка в десне толком еще не закрылась, в общежитии появляется Гена Поляк: шинель без погон, голенища у сапог подрезаны, на плече – рюкзак, полупустой, тот самый, в котором когда-то, давным-давно, пронес я дембельскую водку. Медленно, целую вечность нашариваю под кроватью тапки, встаю с койки, зачем-то поправляю покрывало, и заметь, долго, очень долго поправляю. Наконец, когда поправлять уже нечего, подымаю вежды. Волосы у Гены отросли, но, похоже, с расческой так и не познакомились, а на исхудавшем, небритом уже несколько дней лице вместо ухмылки, когда-то добродушной – я тебе говорил, что нерв у него был застужен? – зловещий оскал, ни больше ни меньше. Молчим. И как молчим! Одну тысячу лет молчим, другую, третье тысячелетие пошло – а мы все молчим. Молчим, пока я листаю журнальчик, вдруг оказавшийся в моих руках: худенький такой, сложен по длине пополам, заголовки не русские, бумага для пальцев непривычная, страницы поддаются с трудом, какие-то они тонкие, скользкие, картинок много, но краски смазанные, блеклые, контуры нечеткие, с красноватым подсветом, будто фотографии – все до единой – снимались на фоне заката. И вот дохожу до разворота, открываю, вижу гору коричневых, провяленных на полуденном солнце черепов с крепкими молодыми зубами – и понимаю все. Все! А потом… потом мою щеку обожгла мокрая щетина, пальцы ощутили сквозь шинельное сукно острые позвонки и у самого уха я услышал его, Гены Поляка, горячий, вздрагивающий шепот на языке далеких предков:
– То вшистко, цо зосталось от пномпэньських курв!
Вот так, дорогой мой, кровавый диктатор Пол Пот разделался с нашей мечтой. А заодно и с нашей дружбой. Где они, мои друзья? Нет их, канули в никуда.
Валера.
Витя.
Гена.
Но иногда, в бессонные долгие ночи, я вдруг вспоминаю древнюю столицу кхмеров и думаю, что на самом деле никакой смерти нет и что мы все, верные данной когда-то клятве, непременно встретимся в том первозданном раю, где солнце милостиво, ветра нежны, а у девушек половые губки трепещут, как неокрепшие крылья птенцов.
Будь здоров!
1
Когда-то мне, как и Мише, и Жене, и Генриху, было восемнадцать. Компания наша сложилась, уж не знаю – благодаря или вопреки – скучным обстоятельствам тех уже достаточно крепко позабытых времен, и то, что нас соединило, касалось, надо полагать, материй столь тонких, что и теперь, спустя четверть века, расшифровке не подлежит – табу. Но были мы сентиментальны, по-юношески неразборчивы, и потому к нам нередко забредали какие-то случайные люди (подружки не в счет), как правило, друзья наших порознь, в разных концах Москвы прошедших детств; уже чем-то неуловимо чужие, далекие – они, что вполне понятно, не приживались, хотя и не исчезали насовсем, продолжая необременительно существовать где-то поблизости – в случайных встречах с размашистым рукопожатием и вялыми, мучительно ненужными словами на трамвайных остановках и переходах метро, в редких и постепенно пересыхавших телефонных звонках с приглашениями на официальные мероприятия вроде свадеб или проводов в армию. Новик же