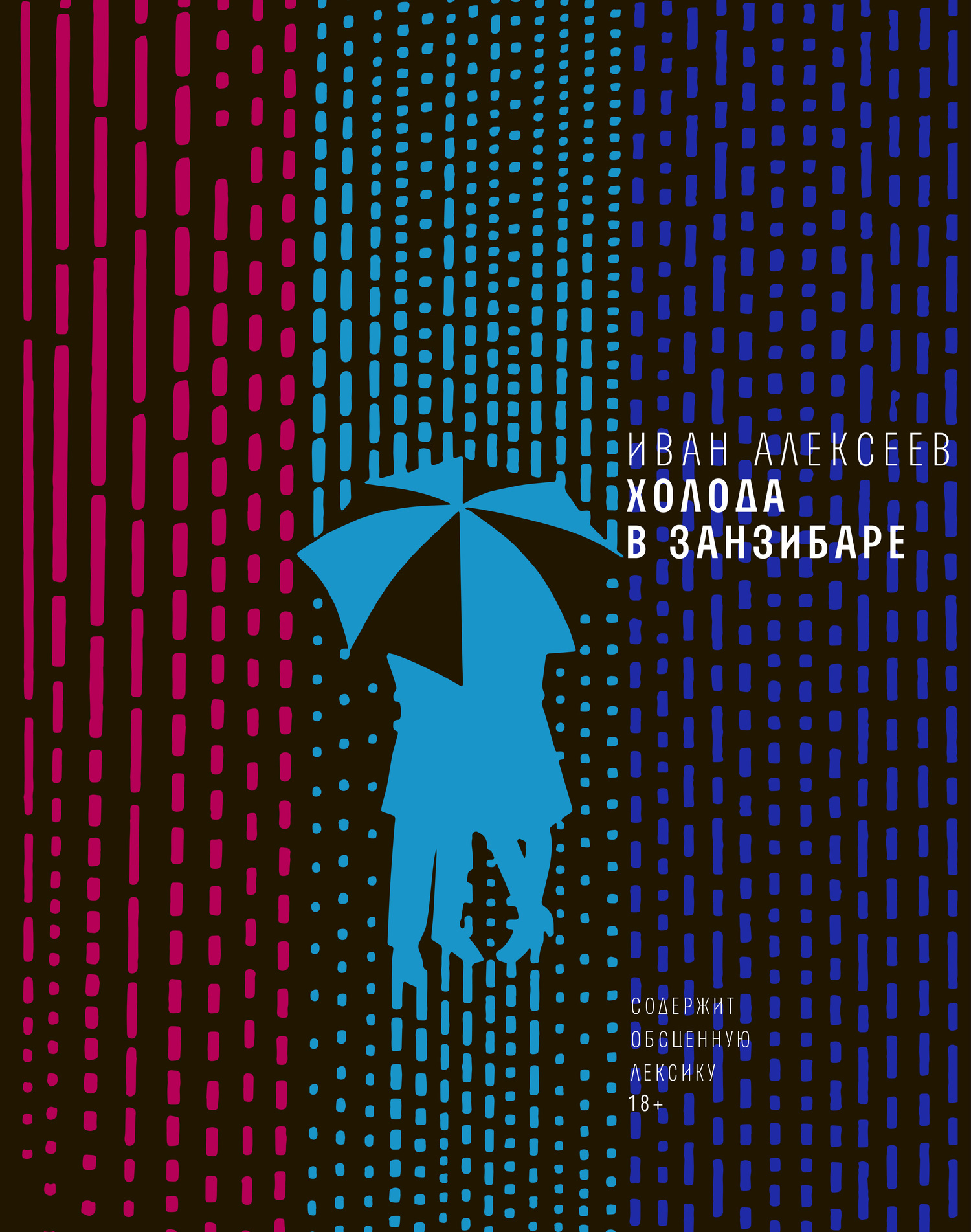еще свежими, голубоватыми белками быстрой и неразборчивой речью. Думаю, что вино было красным [26], лангет холодным, картофель непрожаренным, и один из нас, как всегда это бывало, напился (конечно же, Генрих), но, несмотря на трудности, мертвец понемногу оживал: пробовал голос, шевелил пальцами, вертел нечесаной патлатой головой; Миша в тот день был совсем неплох, можно сказать, в ударе – обрывая рассказ, он вдруг надолго застывал, не завершив жеста, как бы пронзенный внезапной болью, склонив голову к печально приспущенному плечу, отчего шея его вдруг делалась длинной и тонкой, а возвращаясь из этой невольной отлучки, снимал очки, убедительно растирал побелевшими пальцами переносицу и, прежде чем вновь заправить дужки за уши, дарил нам беспомощно-близорукий, извиняющийся взгляд; Новик между тем, поставив голый острый локоть на край круглого мраморного стола, пил в Парке культуры дрянное разливное пиво и с какой-то восточной дикой гордостью посверкивал по сторонам глазами, вызывая своим отчаянным бесстрашием несомненную симпатию, хотя, что скрывать, наши пути с ним могли пересечься только в подворотне, где, останься он в живых, рано или поздно блеском наточенного лезвия остановил бы или меня, или Генриха, или Женю и устроил бы веселенький практикум по экзистенциальному выбору [27]. Но таково обаяние смерти, что едва Новик своей разболтанной походкой, столь ценимой у зюзинской шпаны, в рубахе, завязанной узлом на поджаром мускулистом животе, вышел на площадь с размякшим от солнца асфальтом и, намеренно не торопясь, исподлобья оглядывая праздную разноцветную толпу, замер на фоне сплошного занавеса листвы, из-за которого в небо медленно выплывали хлипкие кабины колеса обозрения, как мы тут же простили ему и эту подворотню, и нож, и то, что ему была глубоко безразлична причина философских расхождений Камю и Сартра [28]. Новик отступил (их было шестеро), но отступил красиво; выплюнув из разбитого рта кровь, под гробовое молчание, подчеркнутое повизгиванием наших тупых ножей, боровшихся с лангетом, он презрительно повернулся спиной к судьбе, и как ни в чем ни бывало разбитыми губами насвистывая «ши гивми эври синг», направился в сторону пруда. Наши бокалы, опомнившиеся лишь в последний момент и чудом избежавшие звона соприкосновения, трагически зависли – чем мы могли ему помочь? (Да и стали бы помогать, случись с ним в ту минуту рядом?)
А чуть позже, в возбуждении поспешного бегства от спровоцированной Генрихом в память Новика и обреченной на поражение драки с белыми рубахами, имевшими численное превосходство, оказавшись на пустынном, заштрихованном косым колким снегом проспекте со сдувшимися шарами ксенона уходящих во мглу фонарей, мы пытались поймать такси, чтобы купить водки, но ни одна машина не остановилась. Вряд ли нужда в этом была столь велика, думаю, нам не терпелось придать приличествующую случаю форму внезапно охватившей нас радости, похожей на ту, что испытывает автор, нашедший единственно верное и точное слово. Несомненно, благодаря этому гипотетическому вечеру в кафе Миша сумел ухватить самый нерв своей роли, да и в нашей игре, раскованной алкоголем, полагаю, становилось все больше попаданий в цель, нам уже был внятен (в хемингуэевском смысле) подтекст: содрав с жизни пленку обыденности (казалось нам), мы сумели увидеть вещи в их подлинной смертной сущности (следующий день накроет Мишу такой бетонной тяжестью подтекста, что он потеряет сознание, когда мать Новика попросит его помочь надеть мертвому другу детства вместо бумажных тапок, поставленных в комплекте с гробом, новые чешские ботинки на только-только входившей в моду подметке под названием платформа, купленные сыну к освобождению; он увидит, как мать выбирает из головы мертвого сына забившиеся в волосы соломинки, и подумает, что их, девятнадцать, везли сложенных штабелем в соломе, как возят яйца или яблоки, а потом, после тряской дороги в автобусе, уже на Долгопрудненском, когда гроб поставят на тележку и снова снимут крышку, окажется, что у Новика повернулась голова, и никто не решится ее поправить, и когда могильщики в брезентовых робах с красными, преисполненными профессионального самоуважения и какой-то труднообъяснимой порочности лицами, держа гвозди в мокрых губах, так и заколотят гроб, чувство вины заслонит все: и промокшие ноги – из снежного следа уже выступала вешняя синеватая вода, – и ознобную унизительную электричку – шофер катафалка откажется подбросить немногочисленную и плохо одетую процессию на поминки, – и бедный стол в коммунальной комнате с настеленными на стулья досками, приторной кутьей, сизым киселем, бледными блинами и кощунственными песнями дальнего родственника).
Было далеко за полночь, но, влюбленные друг в друга больше обычного, причиной чего стало только что совместно пережитое обретение истины, мы никак не могли расстаться, и вполне естественным будет предположение, что наутро мы жаждали продолжить охоту за смертной сущностью [29]. За окном, я полагаю, кружил редкий пушистый снежок, над землей стояла какая-то небывалая тишина, в черных ветвях (предположим) сидела молчаливая против обыкновения ворона и клювом что-то время от времени выщипывала у себя под мышкой. Небо, графика ветвей, силуэт птицы, горький окурок, обнаруженный под кроватью, – мир пенился подтекстом, как рот эпилептика слюной; я позвонил Генриху, тот позвонил Жене, и Женя сообщил, что Миша уже отбыл на похороны. Нас будто бросило друг к другу – в одиночку, подозреваю, нам было не справиться с жуткой и в то же время неизъяснимо вкусной догадкой: подлинная красота трагична, если в красоте не заключена хотя бы крупица смерти, то это уже не красота, а дизайн. Отсюда было рукой подать до дикого утверждения о красоте смерти.
Внешне наша вечеринка в день похорон Новика мало отличалась от прочих – девочки в мини, закинув ногу на ногу, листали альбомы из богатой коллекции отца Генриха: Босх, Пикассо, Брейгель, Ван Гог, Дали, Сезан и пр., мы перепрыгивали с темы на тему и, нетрудно догадаться, спорили о соотношении реального и романного времени (конечно, мелькало имя Бахтина), о том, почему русская литература не владеет техникой контрапункта (исключения подтверждали правило), какого черта старый Сартр напялил джинсы в обтяжку и увлекся идеями Мао, – разве что подтекст, кровавая подкладка свежеобретенной истины придавали нашим словам особенную весомость и значительность; и, уже красноглазый, засоривший раковину, появился Генрих, а я под рассуждение о праве на самоубийство как свободном выборе личности добрался до влажной полоски кожи, начинавшейся сразу за чулком (время сплошной колготизации еще не настало) моей неверной подружки, назначавшей по телефону свидания артисту театра на Таганке Хмельницкому, для которой я был лишь компромиссом в ожидании перемены в судьбе. И уже посетил соседнюю комнату, где совершил трагический, полный смертного подтекста акт соития, а вернувшись, бросился в новый спор, надо полагать, о праве гражданина не участвовать в злодействах государства. Но