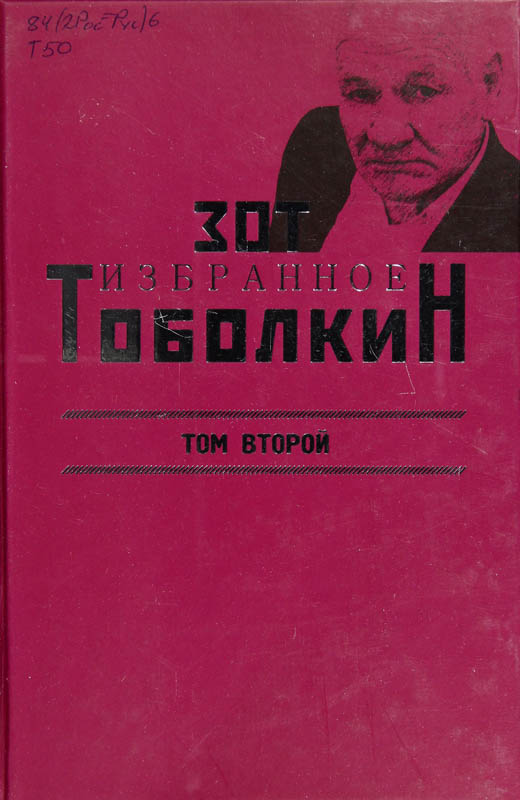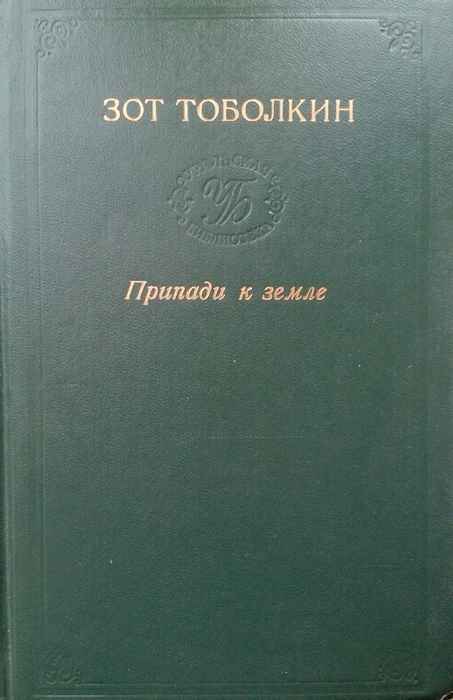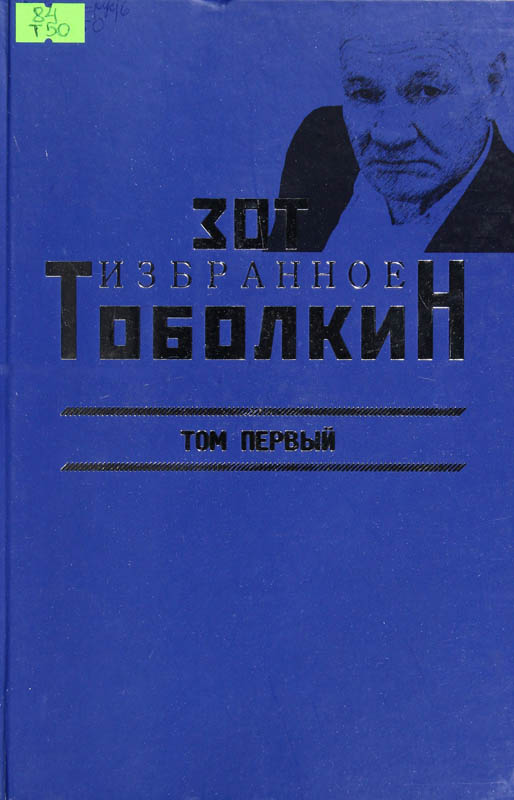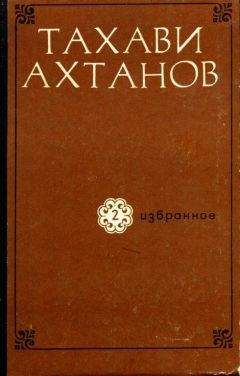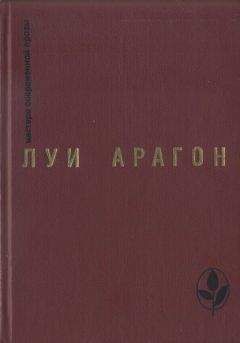- Христовый ты мой! Сможешь ли сторожем-то?
- Смогу. Я большой.
- Да ясно, сможешь! Ворья у нас нет, а зверь и у Мити вон сколь овец перетаскал.
- Ты председателя уговори. Вон он идёт.
- Григорий Иваныч! Дело есть. Дозволь Веньку в сторожа взять. Совсем одни ребятишки остались. Кормиться-то чем-то надо?
- Скажи Катерине, чтобы выделяла им молока.
- На правлении не решали – зашумят.
- У кого язык повернётся? А ежели зашумят, расходы возьму на себя.
- С Венькой-то как?
- Пускай сторожит.
«Какой из его сторож! Самый отёл сейчас. Да уж как-нибудь уследим», – забыв, что её назначили заведовать детскими яслями, прикидывала Александра.
- Вот хорошо-то! – радовался парнишка. – Колхозником стал!
- Это ты ночью колхозник. Днём – школьник. Школу бросишь – из сторожей выгоним.
- Ну вас, – разочарованно протянул мальчуган. – Разве колхозники в школу ходят?
- Ходили бы, да больших не пускают.
Александра прошла в коровник.
На её половине хлопотала Катя, растаскивая порожние фляги.
- Командуешь, девонька? Потеснись-ка, помогу напоследок!
- Почто напоследок?
- Науменко детишков нянькать велит.
- По твоему здоровью в самый раз.
- Была когда-то и я здоровой... Ворочала, сил не жалела.
- Разве я не знаю, тётя Сана? Мне без тебя тоскливо будет.
- Тоска-то не старость, пройдёт. Тут вот помощничек у нас объявился.
Из-за загородки на них посматривал Венька.
- Сиротинка, – вздохнула девушка и, налив молока, поднесла: – Пей!
Сама выросшая без родителей, была она добра и жалостлива. В её памяти всё ещё отчётливо жили воспоминания о матери, потерявшей рассудок. На глазах матери кулаки вспороли отцу живот и, набив зерном, выставили на улицу с табличкой «Вот тебе развёрстка!». С тех пор мать помутилась рассудком и до самой смерти ходила, выкрикивая: «Хлебушко! Горячий хлебушко! Ой, жгётся!».
Давно это было. Но и спустя многие годы Катя боялась смотреть на зерно: ей казалось, что куча зерна растёт, шевелится, плывёт в кровавом ручье...
- Сколько отелилось? – обойдя ферму, спросил Науменко.
- Две. Третью жду.
- Телята где?
- Ой, не покажу! Вдруг сглазишь...
- Ну ладно. В телятнике-то не студёно?
- Беспокоится, – провожая его взглядом, сказала Александра. – С умом хозяин, да вот баловство это сгубило...
- И жена попалась – добра сука! Видит, что худо ему, и ещё добавляет.
Александра помолчала, сочувственно погладив девушку по плечу.
В сумерках Науменко подъехал к своему дому и нагрёб в амбаре два мешка зерна, но вынести не успел: вошла Мария.
- На мельницу? – спросила.
- Туда, – хотел солгать Науменко, но язык не подчинился. – Тебе что?
- Хлеб-то общий.
- Уйди... лучше уйди! – отворачиваясь, чтобы не видеть счастливого блёска в её глазах, хрипло сказал он.
- Это почему же? Впрочем, вези куда хочешь. Можешь не таиться, я всё знаю.
Она была убеждена, что эти мешки он повезёт к Сундарёвым, а не к ребятишкам, оставшимся сиротами, и что с Катей у него давнишняя связь. Но теперь ей это было безразлично.
Неторопливо набрав в лукошко муки, Мария вышла, покачивая упругими бёдрами. Её понимающая насмешливая улыбка взбесила Науменко. Это была не та прежняя, подавленная, а незнакомая ему, сильная и уверенная в себе женщина, которой он удивился и позавидовал. Ему хотелось сокрушить эту силу, сбить с губ улыбку. Спрыгнув с предамбарья, задыхаясь, как пёс на цепи, крикнул:
- Стой! Тебе говорят, стой!
Презрительно пожав плечами, она остановилась.
- Не кричи. Я слышу.
- Не-ет, ты не слышишь! Ты давно меня не слышишь! – Выпнув лукошко, он сильно толкнул жену в грудь. Мария качнулась, но устояла. Мука запорошила её лицо, на котором горько и удивлённо темнели одни глаза. И это был миг, когда Науменко мог сдаться, мог упасть перед ней, скажи она лишь одно слово: «Гриша!». Она молчала. Пересиливая противную слабость в себе, испытывая отвращение, он ударил Марию, потом стал слепо, безжалостно избивать её. Она молчала. И даже не закрывалась от ударов.
- Да вы что! – изумлённо вскричал Сазонов, заходя во двор. – Остановитесь! За что?!
- За всё, – тихо сказал Науменко и, судорожно хлебнув воздух, зарыдал.
Занеся Марию в дом, Сазонов плеснул на неё водой, неловко раздел и