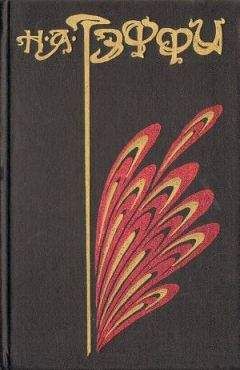Он надул губы и, упершись об стол ногой, стал раскачиваться на стуле. Это мгновенно вызвало то, на что было рассчитано, и через минуту Яша уже ревел по ту сторону двери.
Ревел он долго, так что даже самому надоело, и под конец уж ничего не выходило – ни слёз, ни настоящего реву. Тогда он пошел в садик, состоящий, как и большинство дачных садиков, из зеленого забора, зеленой скамейки и бурого куста без листьев, влез на забор и стал обдумывать дальнейший план.
Хорошо было бы, например, пойти к купцу в сарай, где стоит лошадь. На лошадь можно покричать басом: «Но-о! – балуй!»
Хорошо также взять хворостину и погнать корову с полянки – вниз к речке. Но недурно также пойти покумиться с докторовой собакой. Он расслышал, как доктор кричал ей «апорт». Вот бы так покричать самому!
А напротив купцовой дачи у старухи есть индюк, которого очень весело дразнить. Старуха богатая – верно, индюка нарочно для дразнения и держит.
Но все эти планы давно были известны и матери и няньке, и тетке, и были запрещены строго-настрого, потому что лошади лягают, коровы бодают, собаки кусают, а индюк – рассердится, так и глаза выклюет.
Одно оставалось – скакать на заборе, хлопать по бурому кусту палкой и кричать ему «но-о! балуй!».
Но на террасу вышла тетка и сказала, подкатывая глаза:
– Не кричи под окнами, сделай одолжение. У матери, по твоей милости, мигрень. Она пошла прилечь. Иди в детскую!
В детской было душно, и скучно, и даже небезопасно, потому что нянька разбирала в комоде Яшино белье, а вид этого белья всегда вызывал в ней отвращение к Яшиному образу жизни.
– Вон, смотрите, ради Бога! Новые штаны, а коленка продрана. Раз надел, а коленка продрана! Сколько раз говорю – не ползай на коленках! Как об стену горох! Эт-то что? Батюшки! Уж это не иначе, как нарочно – весь обшлаг оборван!
Яша сидел тихо и, делая вид, что все это к нему прямого отношения не имеет, рассматривал книжки с картинками, причем каждой девочке рисовал карандашом на голове ленточку. Так как девочек оказалось мало, а Яша хорошо вработался, то пришлось рисовать ленточки и мальчикам, и собакам.
Вдали загудел локомотив.
– Вот бы построить железную дорогу, чтобы из детской прямо в столовую ездить в вагоне!
Он быстро вышел из комнаты.
– К маме не ходи! Мама спит, – крикнула нянька вслед.
– Ничего, я тихонько, она и не проснется. Вошел в спальню на цыпочках.
– Мама, мама. Молчание.
– Мама! Ма-ама!
Мать подняла обмотанную теплым платком голову.
– Господи! Что такое! Что случилось?
– Ничего, ты спи себе, спи! Я только пришел спросить, нет ли у тебя немножко рельсов – мне очень нужно!
– Няня! – закричала мать отчаянным голосом. – Зачем же вы его сюда пускаете, ведь вы же знаете, что у меня мигрень! Наказал меня Бог этим ребенком! Несчастная я!
От няньки пришлось выслушать столько тяжелого, что даже мысль о железной дороге выскочила у Яши из головы. Он снова вышел в садик.
«Вот, – думал он, – маму-то Бог наказал. А за что?»
И тут же задумался: «Уж, видно, за дело. Даром-то, поди, не наказывают!»
На крылечко докторовой дачи вылезла докторова Наденька, прилизанная, с гребеночкой на голове и в клетчатом передничке. Хлопотливо приподняла и без того не достающее до колен платье, села на ступеньки и по-бабьи подперла щеку.
Яша перелез через забор, но так как поздороваться с девочкой было стыдно, то он просто проскакал мимо нее на одной ноге и повалился на кучу песку у крылечка. В сущности, это было вполне равносильно обыкновенному «здравствуйте».
Девочка совсем по-бабьи пожевала губами и спросила:
– А барыня у вас строгая?
Яша сделал обиженное и деловое лицо, как дворник Семен, когда тот жалуется няньке: «Эх, жисть тоже у нынешних господ!» – ответил:
– Строгая. А у вас?
– У нас очень строгая, – зашептала девочка, выворачивая губы и втягивая воздух – точь-в-точь как докторова Лукерья. – Очень даже строгая. Как я упаду, так она сейчас и кричит, и кричит! И все не позволяет.
– Чего не позволяет?
– Дурить не позволяет! Совсем не позволяет дурить – ни тебе капельку.
– У господ нашему брату жить тяжело! – басом подхватил Яша, уже совсем как дворник Семен, и даже пощупал то место, где лет через четырнадцать ожидалась борода. – Жалованья дает хорошо – тридцать копеек.
– А я вот, даст Бог, когда вырасту большая и выйду замуж, буду всегда есть сардинки, и в каждой комнате все у меня будут сардинки, и в постелях будут сардинки.
Из дверей высунулась голова докторовой Лукерьи.
– Ты сюда зачем, мальчик, пришел? Еще нашкодишь что-нибудь, а потом за тебя отвечай! Иди, иди, нечего баловать.
Яша сначала собрался было послушаться, но вспомнил, что Лукерья чужая, и сказал степенно:
– Я тебя не обязан слушаться. Ты не имеешь никакого права!
– Вот я тебе ужо дам права разбирать, – пригрозила Лукерья и, взяв Наденьку за руку, увела в комнаты. Наденька поплелась вразвалку, совсем как Лукерья, и, переступая через порог, приподняла короткую юбчонку. Из всего этого Яша понял – вдруг и всецело перешла на сторону Лукерьи. Он еще не знал, что это называется изменой, но ему сразу стало противно сидеть на «их» песке у «их» крылечка.
Он вскочил и, чтоб показать полное презрение ко всему происшедшему, с громким гиком поскакал домой.
Дома его долго бранили. Сначала нянька – за оборванную пуговицу, потом тетка – за грубый вид, затем вставшая мать – за грязные руки, и под конец – приехавший из города отец за то, что все им недовольны.
– Свинопасом будешь! Сели за стол.
К обеду неожиданно пришла чужая дама, и Яшу уже никто не бранил вслух.
– Наш Петруша такой умненький! – звенела гостья. – Сегодня, можете себе представить, спрашивает у Лизы: «Кто важнее, митрополит или губернатор?» Та отвечает – митрополит. «Ну, – говорит, – в таком случае я хочу быть митрополитом, а мои дети пусть будут губернаторами». Подумайте! Такой крошка, и уже мечтает о карьере. А ты, Яшенька, кем хочешь быть?
– Я-то?
Яша на минутку задумался и затем твердо, не увлекаясь мимолетно мелькнувшими перспективами быть капитаном, разбойником, графом и кондуктором на конке, высказал свои планы на будущее:
– Когда я вырасту большой и выйду замуж, я хочу быть краснокожим.
По лицам родителей он увидел, что продешевил себя, и хотел уже вернуться к кондуктору, но дама вдруг замахала руками и закудахтала:
– Ах, прелесть! Ах, золотое детство! Отдайте мне, я его возьму с собой.
– Н-да, так я и пошел! Мне здесь тридцать копеек жалованья-то платят. Ты, што ль, платить станешь? Начетисто будет! Невподъем!
Проговорил он это, как и все денежные разговоры, двор-никовским басом. Хотел еще что-нибудь ввернуть, но отец посмотрел на него строго и отправил его спать.
Так рано его еще никогда не укладывали. Он лежал в постели, и казалось ему, что он один на свете такой несчастный. День мог бы быть очень хорошим, если бы они все не сердились всё время.
Перед сном он немножко всплакнул, потом высек мысленно всех по очереди, начиная с отца и кончая докторовой Лукерьей, а так как ушел из-за стола без сладкого блюда, то в первом же сне увидел розовое бланманже и даже ложку около него. Но пришла гостья, засмеялась, закудахтала, утащила все к себе в курятник и оттуда звонко прокричала:
– Золотое детство! Ко-ко-ко-кудах!
Я не люблю предисловий.
Пусть читатель остается свободным в своем отношении к читаемой книге, и не дело автора забегать вперед, так или иначе рекомендуя свое произведение.
Я бы и теперь не написала предисловия, если бы не одна печальная история…
Осенью 1914 года напечатала я рассказ «Явдоха». В рассказе очень и грустном и горьком говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой и такой беспросветно темной, что когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала – пришлет он ей денег или нет.
И вот одна сердитая газета посвятила этому рассказу два фельетона, в которых негодовала на меня за то, что я якобы смеюсь над человеческим горем.
– Что в этом смешного находит госпожа Тэффи! – возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла: – И это, по ее мнению, смешно?
– И это тоже смешно?
Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты. Но как могла я сказать?
И вот цель этого предисловия – предупредить читателя: в этой книге много невеселого.
Предупреждаю об этом, чтобы ищущие смеха, найдя здесь слезы – жемчуг моей души – обернувшись, не растерзали меня.
Тэффи