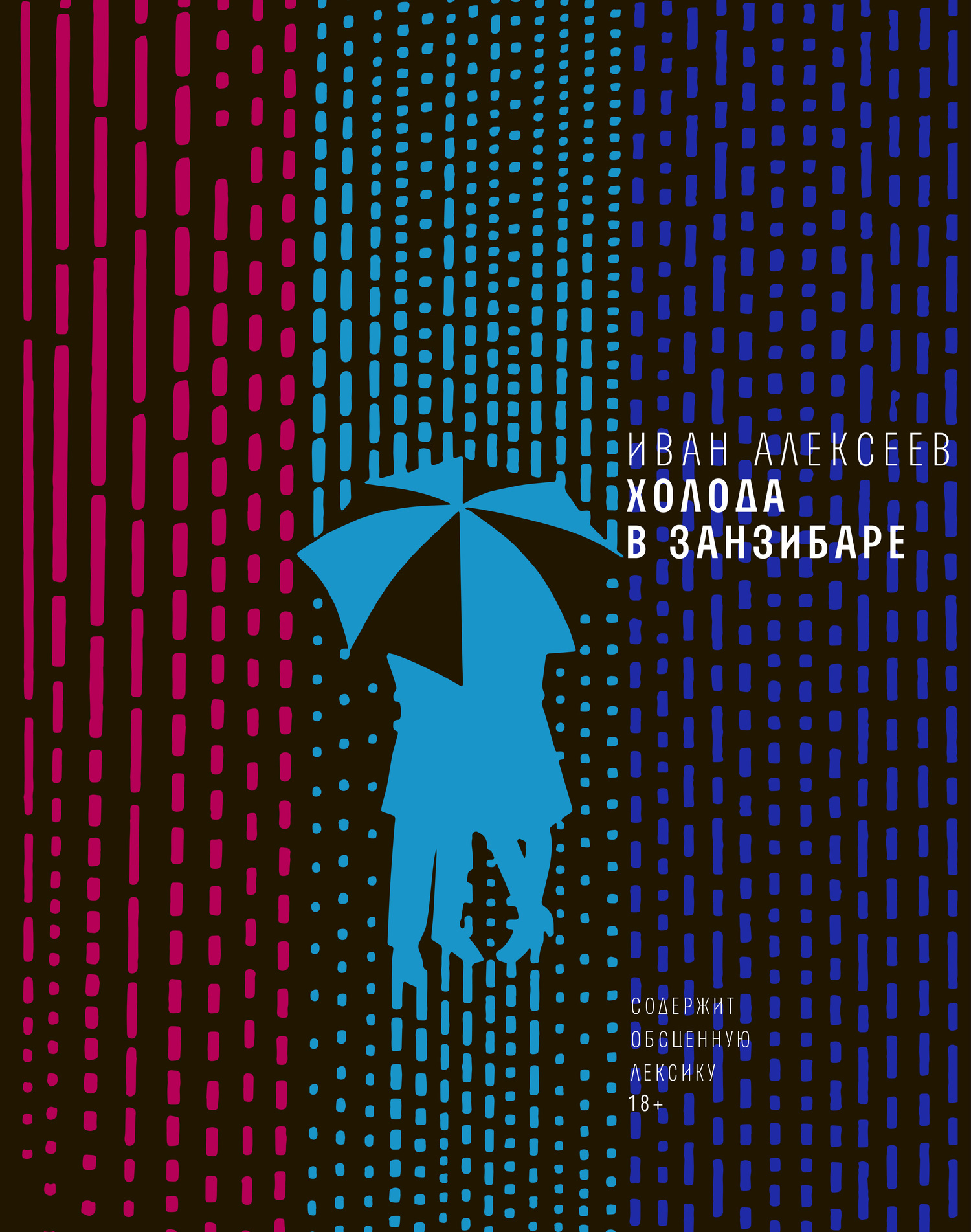не любит – что прошло, то прошло. Он любит пиво и, вожделенно поглядывая на сверкающий автомобиль, бурчит под нос:
– ……..
Жара достает, мозги пульсируют вязкой краснотой, я смотрю вслед черной фигурке, удаляющейся неровной, с запинками походкой: есть, черт возьми, в этой тщедушной спине какая-то несомненная правота. И достоинство. Я оборачиваюсь к Михалычу – его взгляд делается нетерпеливо-ищущим, руки – тревожными: мое равнодушие к пиву (есть – хорошо, нет – и не надо) для него городская причуда, род сумасшествия, извращение.
– Нет, Михалыч, нет, – говорю я, поймав севшего на штаны неповоротливого толстого слепня, и пальцами бережно перехватываю за крылышки – слепень вяло сучит ногами. Что это, детство? – я дотягиваюсь до заляпанной, с прилипшими опилками, жестяной банки, стоящей рядом с циркуляркой, прокалываю щепкой толстую упругую пленку и, зацепив немного зеленой краски, густо замазываю безглазую с нефтяным отливом голову. И отпускаю, подбросив с ладони. Слепень берет точно на солнце. Он поднимается все выше, выше, рисуя суживающуюся спираль, и наконец исчезает. Блаженно, словно сделал что-то хорошее, закинув руки за голову, растягиваюсь в траве – в ее сухом пряном подшерстке тихо копошится какая-то маленькая жизнь – и, закрыв глаза, слышу, как зазвенел велосипедом, прилаживая к багажнику пластмассовую канистру, Михалыч, как он, разбегаясь, часто засеменил, как заскрипела плохо смазанная цепь (три километра до Липны, там он оставит велосипед у родственницы и сядет в автобус). А вокруг стучат вразнобой молотки, взвизгивают пилы, верещат электрорубанки, пустынно, с участка на участок перепархивают искаженные горячим воздухом голоса, брешет собака сторожа, где-то у леса ссорятся вороны, трещит пускачом и никак не схватывает трактор… Жара укачивает, отгораживая от реальности тонкой занавеской, и уже кажется, что в круговороте всех этих случайных звуков сокрыто важное, предназначенное только тебе, сообщение. Занзибар – выбулькнуло вдруг из глубины и закачалось, как поплавок, на поверхности сознания: Занзибар. Неведомая страна, где всегда жарко, где, как в кино, кофейно-молочную гладь болот вспарывают реликтовые спины крокодилов, где сутулые буйволы жуют жесткие стебли, где нежатся золотистые львы, где, поднимая зарево оранжевой пыли, проносятся за горизонтом стада антилоп.
Сейчас я очнусь и пойду на речку Липенку, маленькую, метров в пять шириной, просвечивающую складчатым песком, где едва шевелятся продолговатые, спаренные с тенью мальки с пятнистыми спинками, где успевают отразиться и склоненная ветла, перебирающая длинными пальцами, и высокий берег с оползающим, как крем с торта, дерном, и сонно клубящееся облако. Я лягу в воду, спугнув мальков, и, наслаждаясь покоем прохладного потока, забуду, как мечется в черном провале зрачка безумная влага.
Сил у меня хватает только на то, чтобы переползти в тень, под высоченную липу, что даром досталась мне от какой-то бабы. В ведре, наполовину пустом, плавает листок, травинки и прочая летняя перхоть. Я пью, обхватив ведро ладонями, заглядывая в цинковый с колодезным эхом сумрак, и никак не могу напиться. Тепловатая вода проливается на плечи, грудь, живот и, задержавшись у запруды пояса, прорывается дальше, внутрь, внезапными отдельными струйками. Листья липы лениво шевелятся, янтарные на просвет, с клейким глянцем снаружи, матовые с исподу – в них слышны пчелы: желтый бесконечный звук среди голубого и зеленого. Я чешусь потной спиной о ствол, и в моем движении есть что-то сладострастное, – Занзибар. И травинка, со свистом вытянутая из шершавой трубочки, с белой нежной плотью после суставчика, сладковато-горькой, – Занзибар. И надрывный визг циркулярной пилы – усилие все сильней, все невозможней, вскрик и облегченное свободное рычание, – Занзибар.
Я хочу тебя.
Я хочу тебя купать, как отец дочь, и смотреть, как бежит, повторяя возвышенности и впадины твоего долгого тела, прозрачная путаная вода. Я хочу дотрагиваться обратной стороной ладони до твоей щеки и сломя голову лететь ночью в аптеку, если ртуть лишь приподнимется на цыпочки, лишь высунет макушку за красную черту. Я хочу дарить тебе вещи, баловать побрякушками из благородных металлов, кормить заморскими плодами, истекающими соками. Я хочу тебе дать все, чего никогда не было у тебя: и сосредоточенное наслаждение книгой (так и вижу, как ты морщишь лоб, упершись им в прогнутый указательный палец), и шаркающую тишину музейных залов, где пустые от рефлекса полотна в тяжелых рамах – если сделать шаг в сторону – вываливают пышные тела Возрождения. Я хочу, чтобы хоть однажды ты испытала дрожь от Моцарта, когда звуки, будто хрустальный дождь, сходят с небес. Я хочу бродить с тобой по лесу, пронизанному косым, расходящимся светом, и называть имена цветов и птиц, а ночами, ознобными от росы, вместе с тобой угадывать созвездия. Я хочу строить для тебя дом, чтобы ты видела в работе игру моих забронзовевших мускулов, готовила мне еду и гордилась мной. Я хочу целовать омут пупка и, соскальзывая в мягкие завитки, упиваться сокровенной смесью запахов молока, хлева и медового зноя. Я хочу вечерами слушать твой голос и не понимать слов, только ощущать их кожей, пробежками мурашек по спине, сладкой ломотой в суставах от невыразимого счастья. Я хочу, чтобы ты узнала это чудо перемены, когда в тебе ребенок, и видеть твой испуг, когда ты скажешь, что прошло три дня, а «их» все нет и нет, а потом наблюдать, как растет, как округляется твой живот, а во взгляде появляется отстраненная пустота, осоловелость. Я хочу, чтобы все это у тебя было. Я хочу любоваться, как ты надкусываешь яблоко. Я хочу сходить с ума, когда ты задерживаешься, рыскать зверем по квартире, обзванивать больницы и морги и слабеть от радости, когда ты позвонишь в дверь и, виновато обнимая меня, назовешь какой-нибудь пустяк, задержавший тебя, друг мой…
* * *
Лет с чем-то десять тому назад эта шуточка пронеслась по Москве и – для многократного употребления она не годилась – быстро сгинула [42]. Ему же – запомнилась. А до нее – осень, когда в клумбе, засеянной белыми и фиолетовыми астрами, холодно отозвалось небо с длинными остроконечными облаками, а вдоль бетонного бортика ветер прокувыркал сухую листву и всякий мелкий бумажный сор. До нее – когда вышел из библиотеки, а уже снег: опрятный газон, черная толчея следов к метро. Зима представилась глубоким сугробом, через который, увязая, предстояло перевалить, чтобы снова выйти к зеленой травке. Тогда он еще не привык к противоестественной высоте читального зала с откинутыми где-то на верхотуре фрамугами (в них доносился гул улицы) и чаще, чем хотелось, выходил покурить под лестницу. Однажды запах старых книг, покорной стопкой дожидавшихся его внимания, сделался ему неприятен, и в последней кабинке туалета (другие были заняты) его вывернуло. До