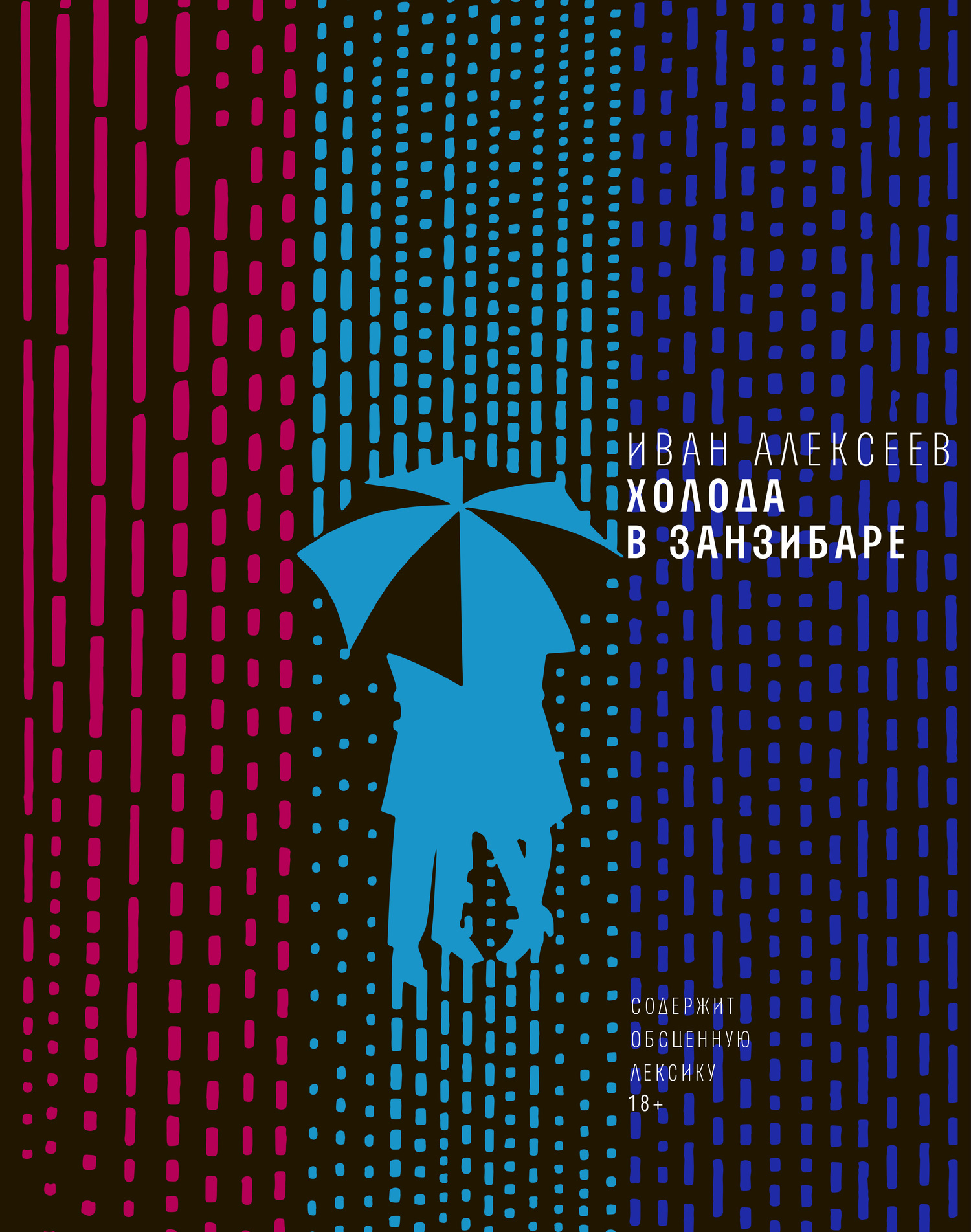шла к берегу и грудки, стянутые гусиной кожей, с синими ежевиками сосков, вздрагивали в такт шагам; хохотала, когда испуганный Кеша из солдатской фляги наливал трясущимися руками крепко разведенный спирт в крышечку от термоса и когда вытирал своей рубахой и одевал ее, и одежда царапалась песком.
Проснулась вечером. Кеша сварил картошку в мундире – она парила в кастрюле, стоявшей в центре круглого стола под оранжевым абажуром.
– Оклемалась? – спросил Кеша, сосредоточенно вскрывая большим охотничьим ножом банку с тушенкой.
В его глазах все еще метался испуг. Лиза лежала и думала, что обязательно родит ему ребенка, будет ждать вечерами, готовить еду и стирать его рубашки с запахом скипидара и пота. А он, вытерев большой тряпкой руки от краски, будет ее обнимать и легонько касаться губами шеи. А еще он будет ее рисовать обнаженной, и на нее, как на Данаю, тоже будет проливаться золотым дождем Юпитер.
– Ты умница, – нежно сказал Кеша, – на этом мальчике можно далеко уехать. Половина госпремии – твоя. Слово лауреата!
Весь следующий день Кеша писал мальчика-рыболова прямо во дворе, на фоне серого горбыля сарая, – на нем был тот же пиджак с дырками и кепка, сидевшая на ушах, и та же удочка из ошкуренной лещины. За каждый час работы Кеша платил мальчику пятьдесят копеек, и тот терпел. Звали мальчика Петей.
Когда уезжали, Петя попросил прислать с картины фоточку и пошел их провожать к автобусу. Он по-мужски держал Лизу под руку, намеренно приотстав от Кеши – тот, нагруженный этюдником и рюкзаком, шел впереди.
– Он тебя ебет? – вежливым баском поинтересовался Петя.
– Нет, что ты! – Лиза почувствовала, что допустила оплошность – надо было показать, наверное, что она таких слов не знает, и сделать мальчику замечание, что слово нехорошее.
– А чего так?
– Не знаю, – честно ответила Лиза и удивилась самой себе, что так естественно отвечает на такой неприличный вопрос, да еще заданный десятилетним мальчиком.
– Наши-то девки скотиной воняют, – сказал Петя. – А ты ничего пахнешь, чистая. Я пока маленький. А был бы большой – я б тебя…
– Что? – Лиза испугалась, что снова услышит нехорошее слово.
– Отчпокал бы, – важно сказал мальчик.
Лиза засмеялась, как будто Петя сказал что-то приятное, сняла с него кепку и кончиками ногтей поскребла под немытыми волосами скальп.
– Ты хороший, – сказала Лиза.
Три дня Лиза не могла Кеше дозвониться и поехала без звонка. И увидела, как в подъезд входит Лена.
У меня отпуск, и я строю дом. Помогает мне плотник из поселка Труд – Михалыч, покладистый мужик с молодым поджарым телом и старым изношенным лицом.
Из-за жары начинаем в пять утра. Михалыч, несмотря на похмелье, приходит минута в минуту – сквозь душный сон я слышу звук прислоненной к дереву велосипедной рамы и, лежа в палатке на тонком поролоновом матрасе, животом, грудью, щекой узнаю удары его шагов.
– Леха…, вставай…, а то это…, – он деликатно тормошит брезент палатки и застенчиво, скороговоркой, матерится, – нам эту, как ее…, ставить, не успеем…
Как всегда, он привез литровую банку молока – только из-под коровы. Пока я завтракаю, Михалыч сидит передо мной на корточках и отрешенно курит. Я вытягиваю руку, нащупываю хлеб, отламываю крупный кусок, запрокинув голову, пью из банки, сквозь мутные стенки которой просвечивает солнце. Закуриваю: от первой затяжки кровь замирает, тело теряет вес, голоса птиц становятся громче, объемней – и кажется, что поют они внутри головы.
– Ну…, давай, что ли…, – говорит Михалыч, и я возвращаюсь.
Мы принимаемся за работу – пилим, строгаем, стучим молотками. Михалыч, случается, сердится и покрикивает, но мне это даже нравится, потому что выдает азарт. В перекур я выхожу на дорогу и, резко обернувшись, – издалека – любуюсь делом рук своих: есть что-то невыразимо прекрасное в строгой геометрии стропил, в четком ритме стоек, в целесообразности укосов на фоне неба и зеленых ветвей. Я медленно прохожу вдоль участка, раздавливая в пыль сухие комочки глины, и искоса, будто посторонний, подглядываю, как чередуются вертикали, как они сближаются, сливаются и снова расступаются, как поворачиваются, скрещивая диагонали, прозрачные стены, как в стропила, сведенные в мучительно острый угол, входит солнце, отчего остов становится черным и плоским, будто на чертеже.
Городская квартира, выданная в долголетнем унижении очередью, – только пристанище, ночлег, а человеку нужен – Дом. И я построю его, и окна сделаю где хочу, и двери, и крыша у меня будет с фокусом, а вечерами полюблю зажигать камин и смотреть на пляски огня. Я научусь давить сок из рыжей облепихи, делать настойки из ягод и закручивать компоты.
После полудня, когда жарит особенно нещадно, делаем перерыв, часов до четырех. Если в охоту, я завожу, на радость Михалычу, раскаленный, с обжигающими сиденьями автомобиль, и мы катим за пивом, на станцию.
Заканчиваем в сумерки – светлые, парные. На примусе, позвякивая крышечкой, кипит мой ужин, Михалыч наливает свой законный стакан и, не торопясь, выпивает, а на его щеке, в седой щетине, расставив ноги, как портовый кран, сидит комар и медленно накачивается кровью.
– ………! – говорит Михалыч.
– …! – соглашаюсь я.
Сегодня с утра занимаемся обрешеткой крыши – прилаживаем по месту доску и быстро – два удара на гвоздь – пришиваем. Дело спорится, круто наклоненная плоскость неудержимо ползет вверх, загораживая небо. Мы подбираемся к коньку, когда доносится со всхлипом:
– Сынок.
Внизу, среди сверкающих, как младенческая кожа, досок, – черная, укороченная высотой фигурка.
Лет пятнадцать назад на месте наших участков были кирпичный завод и поселок. Завод упразднили, потом ушла из колодцев вода (говорили, из-за карьера), жители разбежались. Теперь, случалось, они робко топтались у наших калиток, надеясь выпросить хоть какие-нибудь деньги за разрушенный фундамент или за уцелевшие плодовые деревья.
У меня растут пять яблонь – старых, разлапистых; этой весной они так отчаянно цвели, что остаться равнодушным было невозможно: я спилил сухие ветви, замазал культяпки садовым варом, вычистил и забил глиной дупла, перебинтовал, выбелил известью стволы…
– Они у меня хорошие, сынок, крепкие. У всех-то померзли, а мои поболели, поболели и оправились. Была, сынок, зима такая, с морозом, вот лет десять, сынок, лет десять. Мы уже не жили, а я все ходила к ним, сынок, ходила и плакала…
С призраками не торгуются. Я даю двадцать пять рублей.
– ………, – бормочет спустившийся с крыши Михалыч, – мог бы…, стаканом обойтись…
Когда-то и он здесь жил, и были у него дом, сад, работа – заталкивал в печь по рельсам тележки с сырым кирпичом. Но вспоминать Михалыч