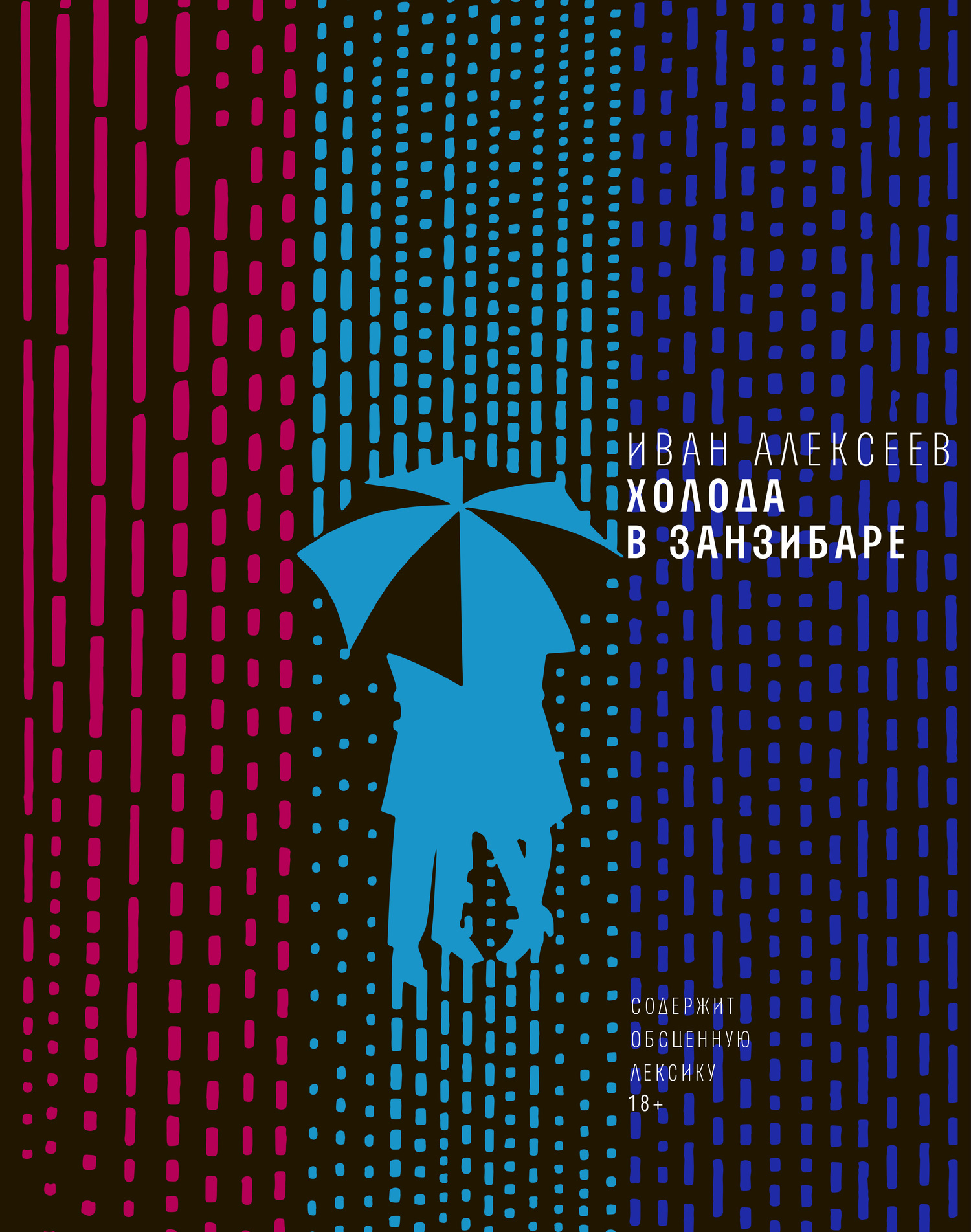был тотчас прощен.
А потом Кеша купал ее в Бахе. Когда хор смолкал, заезженная пластинка громко шипела – казалось, что это шипят черные дыры в ледяной бесконечности Вселенной. Стыдясь подступивших слез – звучала ария «Erbarme Dich» [41], – Лиза решила поумничать и блеснула модной в то время на филфаке версией:
– Но ведь кто-то же должен был предать Христа? Ведь без предательства Христа бы не было? Значит, Иуда совершил подвиг?
Кеша как будто не услышал и посмотрел на часы.
– Все, девочка, – сказал он потухшим голосом и опустил глаза, – на сегодня все.
– Мне больше не приходить? – обиделась Лиза.
Когда она надела куртку, Кеша подошел сзади и, слегка сжав ей плечи, клюнул губами в висок.
– Ну что ты. Я тебе очень благодарен. Если ты мне не позвонишь, я повешусь вон на той трубе.
Бах мощно выплеснулся в захламленный коридор и сразу задохнулся, точно его придавили подушкой.
Она приходила, всегда прежде позвонив – так договорились. Он уже сказал ей, что у него есть жена и ребенок, но Лиза этому никакого значения не придала. Уютно завернув ноги в плед, невинно спросила:
– А любовница?
– Господи! Зачем тебе это?
– Интересно.
Кеша задумался, а потом сказал:
– Ну, пожалуй, что да. Что-то в этом роде.
– И кто это?
– Взрослый человек.
– Ну и подумаешь!
И жена, и ребенок, и любовница – просто слова; как чистые абстракции, они совершенно Лизу не задевали. Было важно, что вот сейчас она здесь, на его диване, у него в мастерской, слушает сухой шорох карандаша, а сам он под софитом, в конусе света, примостился с большим планшетом на коленях. Кеша получил заказ на иллюстрации, и она старается ему не мешать, молчит и важно сознает необходимость своего присутствия – быть может, она Муза?
Случалось, он задерживался, но дверь в мастерскую оставлял открытой. Лиза готовила себе кофе, забиралась с ногами на диван и листала альбомы с репродукциями – у него было много чего диковинного: все – и просто, и постимпрессионисты, а еще Босх и Брейгель. И – Дали. Однажды она спросила:
– Откуда у тебя Дали?
– Привезли из-за границы. А я как раз продал картину. Вот и купил.
– Так просто? И тебя не арестовали?
– Как видишь.
– Картина как называлась?
– «Похищение сабинянок».
– Нет, правда?
– У нее не было названия.
– А что в ней?
Кеша пожал плечами:
– Так, разные краски намешаны.
– А если ты меня нарисуешь – тоже продашь?
– Не исключено.
В Доме кино, куда ее провел Рома Андросов, Лиза видела фильм поляка Анджея Вайды «Все на продажу» и знала, что жестокость и цинизм – в природе искусства. А потому не только не обиделась, но еще больше утвердилась в том, что он настоящий художник.
– А когда ты будешь меня рисовать?
– Когда почувствую, что пора.
И Лиза ждала – все понимала и не торопила.
Иногда Кеша приносил красное вино, но Лизе наливал только половину бокала – остальное выпивал сам. Глаза его добрели, он пристраивал на колени планшет и быстрыми движениями карандаша делал с нее наброски; снимал лист – тот косо соскальзывал по воздуху на пол – и начинал новый. А то расскажет анекдот и пытается нарисовать ее смех, и злится, что не дается «жемчужность», а то попросит надуть губки, как будто обиделась. Это было нетрудно – у нее все чаще появлялся вкус меди под языком: однажды в Егорьевске, в гостях у бабушки, когда ей было лет пять, лизнула в мороз медную ручку входной двери.
Дома тоска становилась чугунной. Лиза притаскивала в комнату стоявший в коридоре телефон на длинном шнуре, ложилась на кровать, ставила пепельницу на живот и звонила Лене.
– Давай поговорим о Кеше.
– Давай, – соглашалась Лена.
– Мне кажется он очень тонкий.
– И ранимый, – добавляла Лена.
– А еще у него очень красивые руки. Они очень мужественные, правда?
– Правда. И он все понимает.
– Да. И еще он очень талантливый. Помнишь «Сирень»?
– Конечно.
– А еще у него здорово получаются старухи. Они смотрят прямо в глаза и все про тебя знают. Даже мурашки по коже. А еще он какой? – спрашивала Лиза.
– Добрый.
– А еще?
– Нежный.
– А еще?
– Сильный и смелый.
– Ты хорошая, Лен.
– Я тебя тоже очень люблю.
После этого разговора хотелось плакать и скакать от радости одновременно. Иногда мама открывала дверь, просовывала круглую голову в пергидрольной шестимесячной завивке и спрашивала испуганно:
– Ты куришь, дочка?
– Нет, мама, я думаю!
– А я думала, ты куришь.
И голова исчезала.
Стихи на филфаке писали все, или почти все, уж такое тогда было время – поэтическое. Хорошую рифму можно было продать за рубль и плотно пообедать. Рома Андросов посвятил Лизе стихотворение:
А все-таки она вертится,
на то ведь она и Земля.
Из ковша Большой Медведицы
на землю упала зима.
Стих, как тогда было модно, плавно переходил в верлибр и терял знаки препинания:
Потому что Земля – это женщина
с претензией на красоту
которая как известно может быть
либо горячей либо холодной
Ближе к концу лирического героя охватывал страх, и последние строфы вновь обретали энергию и рифмы:
Но иногда сомненьем обрушась
кожу содрав со спины
мне в уши впивается ужас
зубцами визгливой пилы
и женщине случайно встреченной
он дарит прелесть ее колен
Земля – это спящая женщина.
Дата, подпись: Галилей.
Кира Грязнов, соблазнясь подсказкой рифмы, отреагировал мгновенно и тут же выдал смущенному Галилею пародию. Заканчивалась она так:
…Земля – это спящая женщина
Губами обнявшая член.
Страстная телеграмма, отправленная на адрес души Лизы, судя по всему, получена не была – хохотали как сумасшедшие, сгибаясь пополам. Рому с той поры Лиза стала называть Галилеем, на что он, впрочем, не обижался, но рану зализывал долго – весной, уже в ее пиджачную пору, Лиза встретила его с Леной, и он высокомерно, с вызовом, на Лизу посмотрел, но той это оказалось совершенно по фигу.
Вечером Лена позвонила.
– Ты его любишь? – спросила она.
– Кого? Рому? – удивилась Лиза.
– Я про Кешу спрашиваю.
Лиза помолчала, закурила (Лена услышала, как она громко, в трубку, выпустила дым) и ответила:
– Люблю.
– А у тебя с ним уже было?
Лиза снова замолчала, снова выпустила дым, а потом тихо сказала:
– Было.
На выходные, прилепившиеся к 9 мая, поставив родителей в известность, что едет к Лене на дачу, Лиза