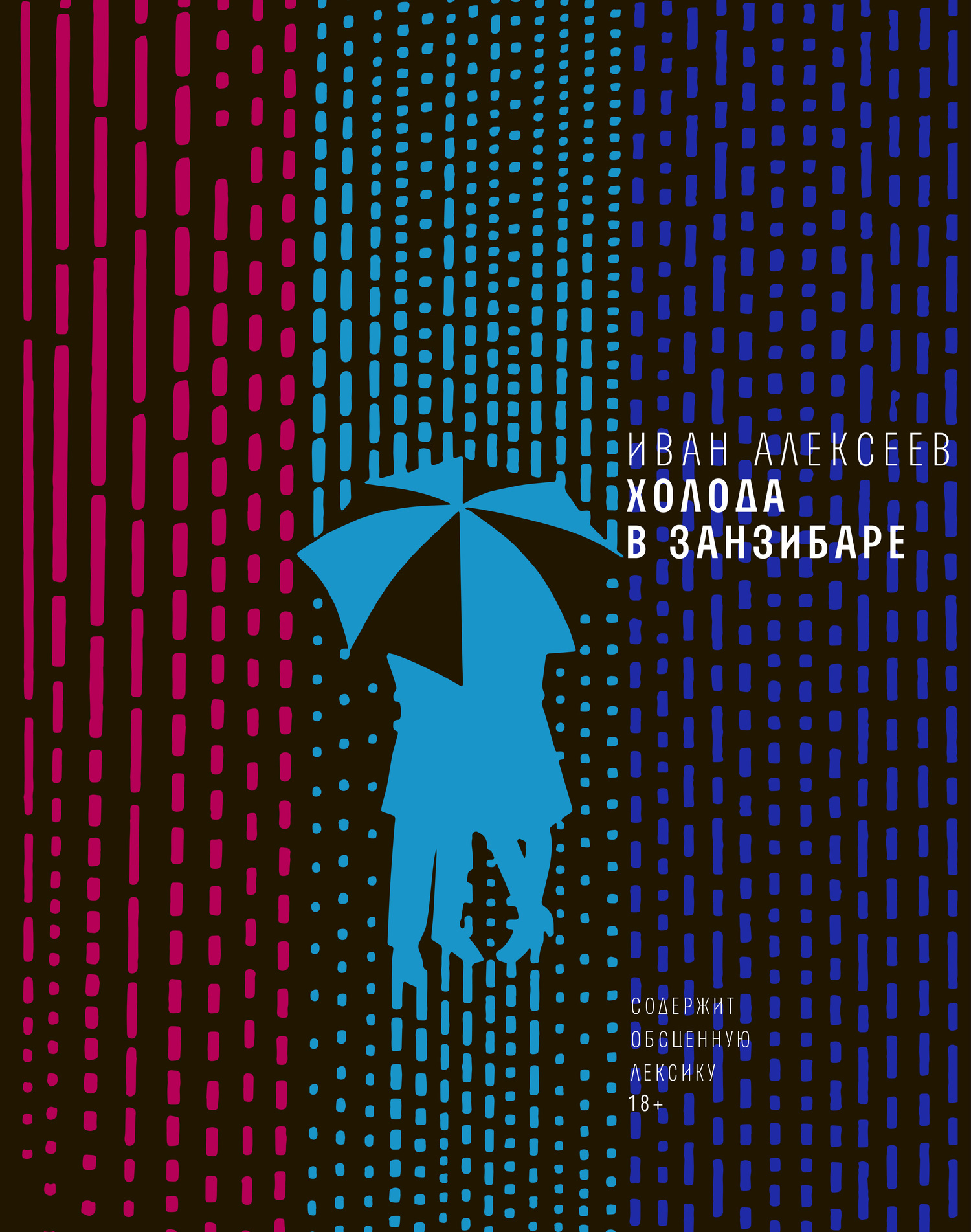отправилась с Кешей на этюды – на Волгу, под Плёс. Остановились в деревенском доме с картонными иконками и геранями на маленьких окошках. Хозяйка, беззубая старуха лет сорока (когда она молчала, нижняя губа почти доставала носа), спросила, как они будут спать. Кеша сказал, что отдельно, и та ушла ночевать к невестке. Кровати были старинные, металлические, с пирамидами подушек и кружевными подзорами, и пахли неведомой чужой жизнью. Всю ночь в доме слышались какие-то скрипы и шорохи. Когда дыхание Кеши затихало, сердце девочки начинало припадочно колотиться в ребра – а вдруг он тоже прислушивается и не решается подойти? Кеша проснулся рано, пошуршал одеждой, скрипнул половицами и вышел на улицу. Ну вот, подумала Лиза, ночь закончилась, и мгновенно уснула.
Проснулась за полдень; в косых столбах золотилась медленная пыль, три пятна света неподвижно лежали на полу под окнами, а в самой избе было сумрачно и пусто. Кровать Кеши была аккуратно заправлена, даже пирамида из подушек – и та выстроена безупречно. Лизе вдруг стало жаль себя, жаль своей загубленной жизни, жаль своей любви, которая никому не нужна. Она свернулась калачиком, и когда рука оказалась в горячем межножье, закрыла глаза. Полыхнуло мгновенно, закрытые веки затопило расплавленным, с красноватым подсветом, золотом, и сразу пришли слезы, горячие и безутешные, нос заложило, а под языком расплылся едкий привкус меди.
Пьяное село полнилось голосами: визгливым смехом, громкой руганью, заполошным собачьим брехом и пронзительными вскриками гармошек. Бабы прогуливались парами, под ручку, в белых блузках и юбках из кримплена, – они громко и весело окликали встречных и по гривкам, поросшим юным чертополохом, хватаясь за покосившиеся штакетники, обходили черные лужи с желтком солнца. Мужики в пиджаках, одетых поверх маек, поблескивали медальками, – все как один некрасивые, поношенные, мелкоглазые; они стояли неподвижно, несмотря на зажигательные переборы двухрядки и грубые вскрики басов, курили, взлаивали надсадным кашлем и провожали Лизу недобрыми взглядами. Возле обезглавленной церкви – на ее карниз присела стайка кривых березок в дымке новой листвы – там, где грунтовая дорога сворачивала на спуск к реке, лежал на боку, задрав к ясному небу огромное грязное колесо, голубой трактор, и из его пощелкивающих внутренностей тонкой глянцевой струйкой вытекало черное масло.
Где искать Кешу, Лиза не знала.
И вдруг – Волга. Взгляд забегал далеко, за другой берег, скользя над темным, заросшим бобриком леса земным темечком. Небо мягко отражалось в воде разлива, его края двоились отражениями, а слева сквозь прорезанный световой занавес в солнечный оловянный расплав медленно втягивался долгий, будто рисованный тушью силуэт лесовозной баржи. Теперь понятно, почему Катерину тянуло летать. По-детски раскинув руки, Лиза побежала с горы.
У подножия глинистого обрыва, на песчаном берегу валялся велосипед и полировкой руля соперничал с блеском воды. Мальчик лет десяти с удочкой, в закатанных выше колен портках, в большом – не по возрасту – коричневом пиджаке и в кепке с чужой головы, стоял по икры в воде, и его отражение лениво переламывалось в глянце медленной складчатой волны. Удочка была самодельная, кривая, из лещины и с поплавком из винной пробки. То, что произошло дальше, походило на фокус: вдруг, из ничего, из небытия, стремительно выскочила и засверкала, ощутимо наполняя воздух ужасом непонимания, небольшая рыбка и, прочертив в воздухе дугу, обреченно легла в грязную ладошку рыболова.
Крохотная, с красными плавниками, вся в полосочку, рыбка таращила испуганные глаза и топорщила похожий на веер спинной плавник. Мальчик откинул полу пиджака – под ней обнаружилось целое хозяйство: банка с червяками, военный, из брезента, подсумок, к брючному ремню была подвязана мокрая веревка – мальчик потянул за нее, и к его ногам медленно подплыл кукан, на котором томилось с полсотни продетых за жабры, полосатых красноперых пленников.
– Мальчик, – спросила Лиза, – как называются эти рыбки?
– Окунята, – басовито буркнул рыболов.
– А тебе их не жалко?
– Жалко у пчелки.
– А можно я с тобой здесь посижу? – спросила Лиза и присела на корточки.
– Сиди, – важно позволил мальчик. – Только помалкивай.
– Все. Набрала воды в рот.
И тут же спросила:
– А ты давно здесь?
– Еще до завтрака.
– А завтрак у тебя когда?
– Как мамка корову подоит, так и завтрак.
– Ты ж голодный! – догадалась Лиза.
– Я, когда клюет, могу весь день не жрамши.
Из воды вылетела еще одна рыбка – тоже окунек.
– А ты случайно не видел тут дядю с бородой, в клетчатой рубашке? Он не проходил?
Мальчик смерил Лизу оценивающим взглядом, нанизал червяка, забросил снасть.
– Может, видел, может, нет, – сказал он важно, но сжалился и кивнул в сторону подмытого обрыва, нависавшего над рекой травяным чубом: – Там он. За обвалом, не ошибесся.
От кед на мокром песке оставались четкие отпечатки подошв. Лиза оглянулась – ее уже нет, а след остался. Как будто позади нее, точно вступая в отпечатки, идет еще одна Лиза, только невидимка. Что-то в этом есть странное, правда?
Кеша, голый по пояс – рубаху он подвязал на животе за рукава, – упаковывал этюды. Мышцы на его спине красиво играли тенями. Лизе он совсем не обрадовался, как будто полдня разлуки для него сущий пустяк, и работы не показал. Недовольный собой, уводил глаза в сторону и на вопросы отвечал как будто через силу. У Кеши оставались еще бутерброды и чай в термосе, и Лиза быстренько и с аппетитом все это прикончила. А заодно похвасталась живописным мальчиком-рыболовом и его старым отцовским пиджаком, сплошь в дырках, наверное от орденов.
– Дырки от орденов? – задумался Кеша.
– Дырочки!
Лиза почувствовала, как исподволь, в кишках прорастает диковатый, колючий сорняк смеха.
Она взглянула на Кешу, как-то странно хмыкнула и начала раздеваться, – сначала медленно расстегивать блузку, пуговичка за пуговичкой, после чего решительно рванула молнию джинсов. Лифчик упал на песок поверх брошенной одежды, а белые трусики все еще парили в воздухе, когда, совершено голая, настоящая, невозможно честная и свободная (не обернулась ни разу!), она медленно побрела в ледяную воду, всей поверхностью кожи, зябко прихваченной ветерком, всем существом упиваясь смятением Кеши. Отмель никак не кончалась, по реке бесшумно скользил белый теплоход с синими полосами на скошенных назад трубах, полный какой-то неведомой и уютной жизнью, и еще ее мог увидеть давешний мальчик – ну и пусть! Всё – и ее ночные надежды и утренние слезы – сделалось далеким и даже смешным. Она начала громко хохотать, потом повалилась плашмя в воду и, не чувствуя холода, поднимала тысячи брызг – в них коротко загорались радуги; хохотала, встав на отмели в полный рост, наяда, искушающая Аполлона; хохотала, когда, расправив плечи, высоко поднимая ноги,