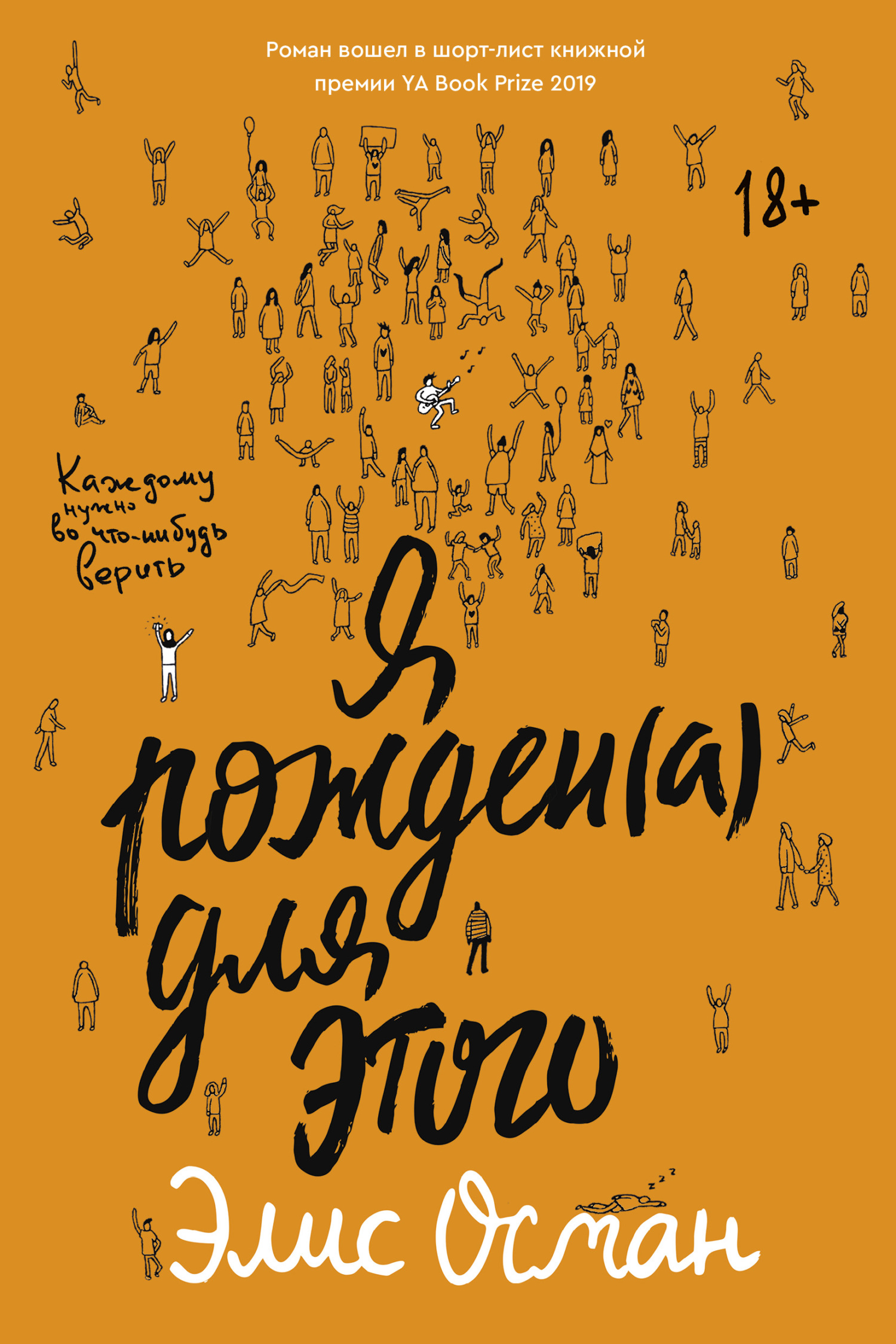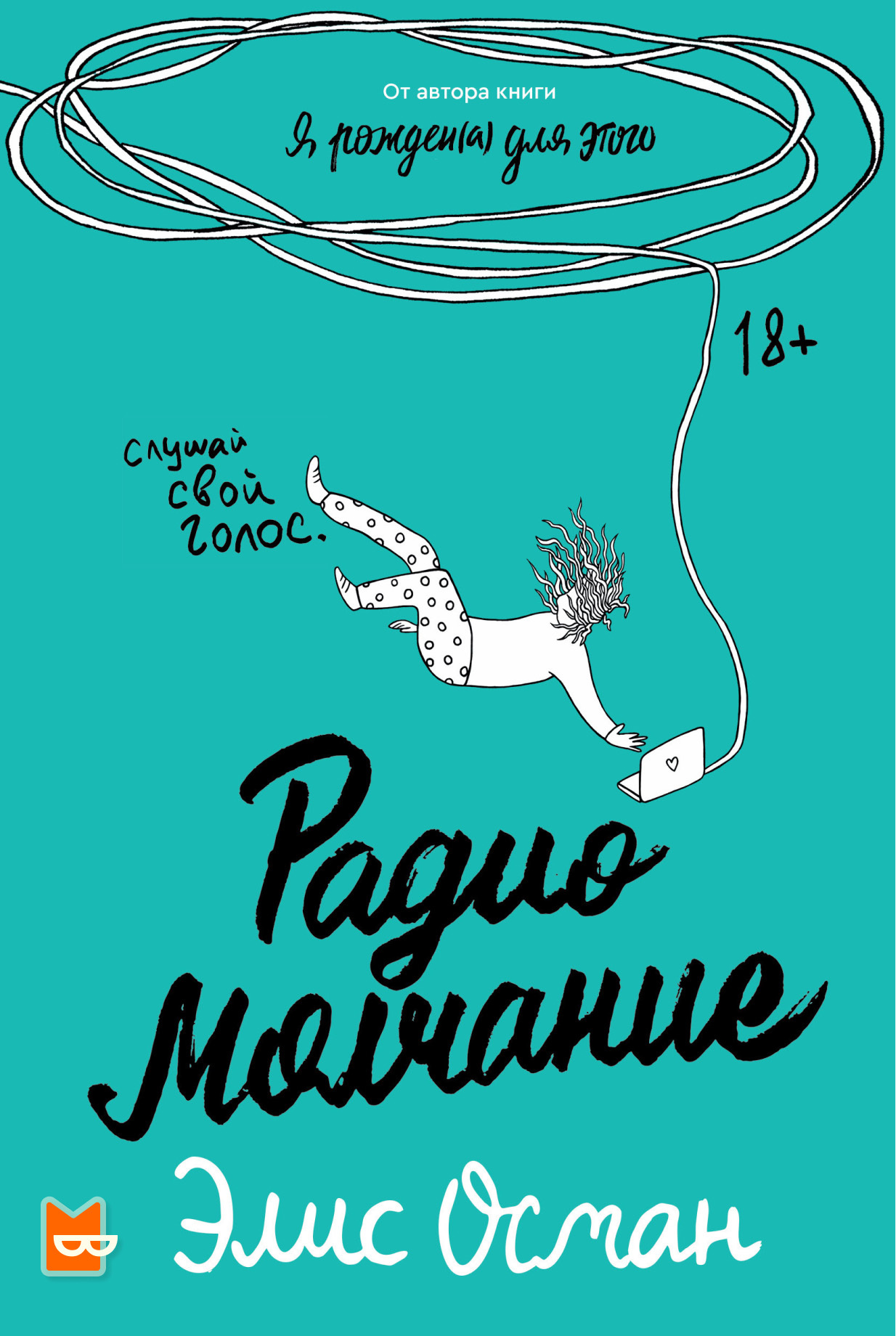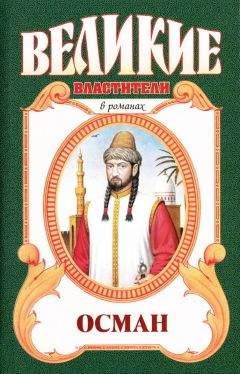только по особым случаям. А ты часто бываешь в церкви?
– Нет.
– А.
Дальше мы шагаем молча, и в кои-то веки Ангел не торопится нарушить тишину. Мы просто идем и слушаем шелест дождя.
•
Церковь ничуть не изменилась – она именно такая, какой я ее запомнил. Тяжелые деревянные двери открываются в холодный каменный зал с темными стропилами и единственным витражным окном. Если расписание тоже осталось прежним, вечерняя служба состоится в семь часов. До нее еще достаточно времени, и пока в церкви безлюдно.
– Ее не закрывают? – с любопытством спрашивает Ангел.
– У нас тут низкий уровень преступности.
– М-м-м. – Ангел идет за мной, вертя головой во все стороны. – Интересно.
Ее глаза перебегают с вытертых подушек на скамьях к табличке с именами викариев, сохранившейся с четырнадцатого века, и маленькому распятию за алтарем.
– Тут куда скромнее, чем я думала, – говорит Ангел, вскидывая брови. – Без обид.
– Пышное убранство обычно в католических церквях. А это англиканская.
– А! – Ангел проходит мимо меня и усаживается на скамью лицом к двери. – Тут красиво. Немного жутковато, но красиво.
– Жутковато?
– Идеальное место для убийства.
У меня невольно вырывается смешок. Я сажусь напротив и внимательно смотрю на Ангел.
– Я не собираюсь тебя убивать.
– Ага, все убийцы так говорят.
Наши взгляды пересекаются над проходом, и мы оба прыскаем со смеху. Пустая церковь наполняется гулким эхом.
– Я часто приходил сюда с дедушкой. Ну, до того как мы основали группу и все завертелось.
Ангел закидывает ногу на ногу.
– Правда?
– Ага. Когда я здесь, мне кажется, что все хорошо. Здесь я могу от всего отрешиться. Прочее становится просто неважным.
Ангел кивает и отводит взгляд.
– Я понимаю, о чем ты.
Больше она ничего не говорит, и я спрашиваю:
– Ты не будешь против, если я… посижу немного на передней скамье?
– Конечно, иди.
Оставив Ангел любоваться витражным окном, я иду к алтарю, сажусь перед ним и впервые за многие недели – или даже месяцы – обращаюсь к Богу.
Он ждет. Он всегда ждет. Неважно, как долго я к Нему иду, неважно, как много дерьма случается в моей жизни, я знаю, что есть место, где меня ждут. Бога не волнует, сколько денег у меня на счету – один фунт или сто миллионов. Бога не волнует, если я совершил ошибку или снова облажался по полной. Бог спрашивает: «Как ты?» – и я начинаю плакать. Я стараюсь не шуметь, но мои всхлипы эхом отражаются от каменных стен. Бог просит: «Скажи что-нибудь», – и я говорю, что не знаю, что сказать. А Он отвечает: «Поделись тем, что у тебя на душе». Но я только плачу навзрыд. Бог говорит: «Все, что с тобой происходит, делает тебя сильнее», и я отчаянно хочу Ему верить, но не могу. «Я все равно люблю тебя», – говорит Он. Ну хоть кто-то любит.
•
Выйдя из церкви, мы бредем по мокрой кладбищенской траве – я решил навестить бабушкину могилу. Даже спустя пять лет ее надгробие светлеет новизной на фоне потемневших от времени камней вокруг. Бабушка не дожила до того, как моя мечта о музыке превратилась в удавку на шее. И эта мысль греет мне душу.
За лугами, раскинувшимися позади церковного дворика, солнце начинает клониться к закату – хотя сквозь дождевые тучи разглядеть это непросто.
– Ничего себе, тут есть могилы семнадцатого века! – восклицает Ангел. Она гуляет среди надгробий и зачитывает надписи, подсвечивая себе мобильным телефоном. – Потрясающе! Кое-где слова совсем стерлись.
Я смотрю на могилу бабушки. Кто-то – наверняка дедушка – принес цветы, и дождь успел их потрепать. А у меня цветов с собой нет – только разряженный телефон, банковская карточка и нож.
Здесь покоится
Жанна Валери Риччи,
любимая жена, мать и бабушка
1938–2012
Я взыскал Господа, и Он услышал меня,
и от всех опасностей моих избавил меня.
– О чем ты думаешь, когда молишься? – спрашиваю я у Ангел.
Она встает рядом со мной, читает надпись на камне и замирает, понимая, куда мы пришли.
– О разном, – говорит она, не отрывая глаз от надгробия. – Иногда вообще ни о чем. Молитва – она больше про чувства, чем про мысли. Ну, для меня, во всяком случае.
Для меня, наверное, тоже, думаю я, но вслух ничего не говорю.
– Жанна. – Ангел вдруг указывает на бабушкино надгробие. – Твою бабушку звали Жанна?
– Ага.
– Значит, песню «Жанна д’Арк» ты написал про нее?
– Ну да.
– А все думают, что это песня про вас с Роуэном.
Я смеюсь, хотя на самом деле мне хочется плакать.
– Я знаю.
Мне хочется плакать, но я держусь изо всех сил и продолжаю улыбаться. Я должна сохранять бодрый настрой, а слезы подождут. Наверное, я и плакать-то хочу потому, что чувства переполняют меня и ищут выхода. Или из-за того, что у Джимми сейчас тяжелые времена, и поэтому я слишком много думаю и о своей жизни тоже.
Ну нахрен. Об этом я сейчас думать точно не буду.
Желудок начинает недовольно ворчать – так что, когда мы подходим к очаровательному кирпичному коттеджу с большим садом, я уже молюсь про себя, чтобы дедушка Джимми оказался из числа тех стариков, которые не позволят молодежи уйти голодной.
Джимми стучит в дверь так громко, что я пугаюсь, как бы он не вышиб стекло.
– Дедушка немного глуховат, – объясняет он. – И еще всегда слушает радио.
Дверь открывает высокий худой старик в брюках и строгой рубашке. Остатки седых волос зачесаны назад, на носу поблескивают круглые очки с толстыми линзами. На ум сразу приходит директор школы из какого-нибудь старого фильма или пожилой академик.
Дедушка смотрит на Джимми – меня он, кажется, вовсе не заметил, – и лицо его озаряется самой невероятной улыбкой, какую я только видела в жизни.
– Джим-Боб! – кричит он и немедленно заключает Джимми в объятия. – Джим-Боб, я и не думал, что ты приедешь сегодня вечером!
– У меня… у меня телефон сел, – бормочет Джимми куда-то дедушке в плечо.
– Да все хорошо, хорошо! Приезжай в любое время, предупреждать необязательно.
Джимми чуть отодвигается, хотя дедушка продолжает обнимать его за плечи.
– И это… Я приехал с другом. Познакомься, дедушка, это Ангел.
С другом! Сердце замирает.
Джимми машет в мою сторону, и я испытываю короткий приступ паники – не знаю, нужно ли пожимать дедушке руку или нет. К счастью, он решает обойтись без рукопожатий и просто тепло мне улыбается.
– Друга!