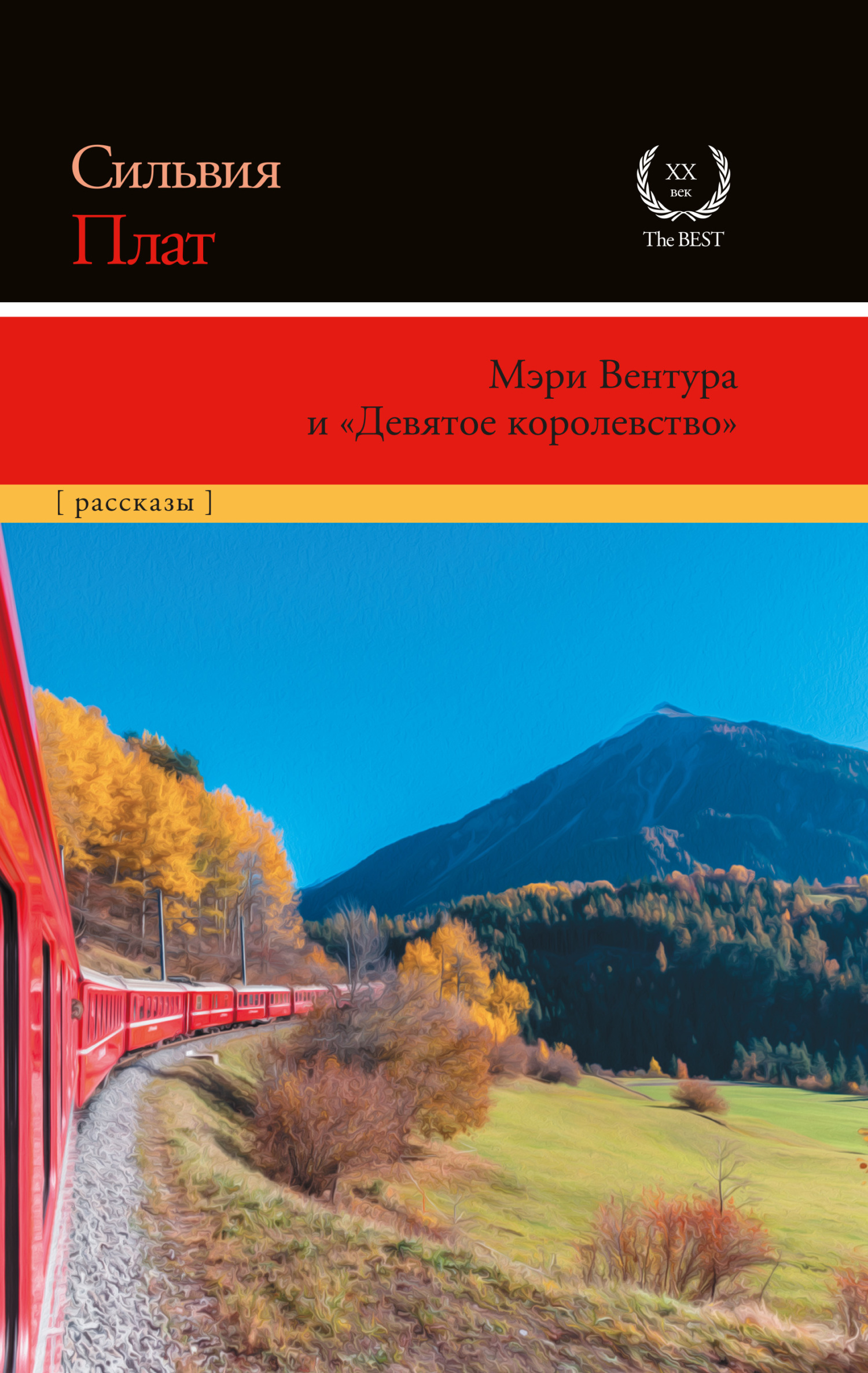закрыта. Однажды, когда она сидела на стуле у его кровати, рассказывая, что семена фиалок уже созрели в саду и можно собирать и сушить коробочки, пришел доктор. Алиса слышала, как открыли переднюю дверь и мама пригласила доктора войти. Некоторое время они стояли внизу в холле, их голоса звучали тихо, серьезно и неразборчиво.
Потом доктор поднялся с матерью наверх, с ним, как обычно, был черный портфель, и он глупо и неестественно улыбался. Войдя в комнату, доктор игриво потянул Алису за косичку, но она отдернула голову и надула губы. Отец подмигнул ей, а мама покачала головой.
– Будь умницей, Алиса, – попросила она. – Доктор пришел помочь папе.
Это было неправдой. Отцу не требовалась ничья помощь. Доктор заставлял его оставаться в кровати, лишил солнца – все это делало отца несчастным. Отец мог бы выгнать толстого глупого доктора из дома, если б захотел. Захлопнуть за ним дверь и запретить приходить. Но вместо этого отец позволил доктору извлечь из черного портфеля большой серебряный шприц, протереть тампоном кожу на руке и всадить туда иглу.
– Не смотри, – тихо сказала мама.
Но Алиса не отвела взгляд. Отец даже не поморщился. После укола он уверенно поднял на дочь голубые глаза, как бы говоря, что ему нет дела до этих манипуляций – он просто потакает матери и толстому глупому доктору, двум безвредным заговорщикам. Глаза Алисы наполнились слезами гордости за него, но она сдержалась и не заплакала. Отец не выносил вида слез.
На следующий день Алиса снова пошла навестить отца. Из коридора ей было видно, как он лежит на кровати в затененной комнате, головой на подушке, а сквозь опущенные жалюзи пробивается бледный, серо-оранжевый свет.
Алиса на цыпочках вошла в комнату, непривычно сладко пахнувшую спиртом. Отец спал, неподвижно лежа на кровати, только ритмично поднималось и опускалось одеяло и слышалось его дыхание. При слабом свете лицо отца было желтым, цвета восковой свечи, он осунулся, кожа возле губ истончилась и натянулась.
Алиса стояла, глядя на родное исхудавшее лицо, сжимая и разжимая маленькие кулачки, и прислушивалась к слабому, прерывистому дыханию. Потом, склонившись над кроватью, положила голову на то место, где под одеялом была его грудь. И откуда-то издалека до нее донеслось еле слышное биение его сердца – затихающая дробь далекого барабана.
– Папа, – позвала она тихим, просящим голосом. – Папа. – Но он не услышал; ушедший куда-то в глубь себя, он был огражден от звуков ее мольбы. Ощутив себя преданной и брошенной, Алиса молча повернулась и вышла из комнаты.
Это был последний раз, когда Алиса Денуэй видела отца. Тогда она еще не знала, что больше никогда в ее жизни никто не будет, как он, гордо и самоуверенно гулять с ней среди шмелей.
Каменные языки
От раннего утреннего солнца, сверкавшего на зеленых листьях растений, маленькая застекленная терраса казалась особенно светлой и чистой, а узорчатые цветы на обитой ситцем кушетке – особенно прелестными в падающих на них розовых лучах. Сидевшая на кушетке девочка с зубчатым квадратом красной шерсти в руках заплакала, потому что вязание у нее никак не получалось. В нем были дыры, а невысокая блондинка в шелковой белой униформе, которая говорила, что все должны уметь вязать, сейчас была занята в швейной комнате, помогая Дебби шить черную блузку с орнаментом из лавандовых рыбок.
Кроме девочки на кушетке, льющей слезы, которые, словно медлительные насекомые, сползали по ее щекам и, капая, обжигали руки, на террасе была только миссис Снейдер, сидевшая за деревянным столом у окна и лепившая из глины толстую женщину. Ссутулившись над работой, она время от времени бросала сердитые взгляды на девочку. Наконец девочка встала и подошла к миссис Снейдер, чтобы взглянуть на глиняную толстуху.
– Вы очень красиво лепите из глины, – сказала девочка.
Миссис Снейдер презрительно фыркнула и стала разбирать женщину на части. Оторвала руки и голову и положила под газету, на которой лепила.
– Зря вы это сделали, – сказала девочка. – Очень хорошая получилась фигурка.
– Я тебя знаю, – прошипела миссис Снейдер, расплющивая женщину и снова превращая ее в бесформенный кусок глины. – Знаю тебя, вечно ты во все суешь свой нос.
– Я только хотела взглянуть, – попыталась оправдаться девочка, но в этот момент вернулась женщина в шелковой белой униформе, села на скрипучую кушетку и сказала:
– Ну-ка, покажи, что у тебя получилось.
– У меня все в дырах, – тупо произнесла девочка. – Я забыла, как вы объясняли. Меня пальцы не слушаются.
– Да нет, все неплохо, – весело возразила женщина, поднимаясь с кушетки. – Поработай еще немного.
Девочка снова взяла в руки красный шерстяной квадратик, намотала на палец нить, стараясь попасть в петлю скользкой синей спицей. Ей удалось захватить петлю, но протащить ее она не смогла. Руки были как неживые, и она снова расплакалась, уронив вязание на колени. Начав плакать, она уже не могла остановиться.
В течение двух месяцев она не плакала и не спала, теперь же она по-прежнему не спала, но плакала все больше и больше, целыми днями. Сквозь слезы она видела за окном блики солнечного света на ярко-красных листьях. Был октябрь, но числа она не знала, потому что давно утратила счет дням, да это было и неважно: один день ничем не отличался от другого, а разделявших их ночей не было – ведь она больше не спала.
Теперь у нее не было ничего, кроме тела – унылой куклы из кожи и костей, которую следовало мыть и кормить день за днем. А ведь ее тело будет жить лет шестьдесят, а то и больше. Через какое-то время всем надоест ждать изменений, и надеяться, и говорить, что Бог поможет и когда-нибудь она будет вспоминать все, что с ней случилось, как дурной сон.
Тогда она станет проводить свои дни и ночи прикованная к стене в темной одиночной камере, грязной, с пауками. Вне сна они не опасны и перестают говорить на своем жаргоне. Но из ночного кошмара своего тела ей не выбраться – лишенная сознания, лишенная всего, кроме бездушной плоти, она пухнет от инсулина и желтеет от сходящего загара.
В тот день она, как обычно, вышла одна в огороженный забором двор с книгой рассказов, которые не читала, потому что вместо слов видела непонятные черные иероглифы, за которыми не было живых цветных картин. Она взяла с собой теплое белое шерстяное одеяло, в которое любила заворачиваться, когда лежала на скалистом выступе под соснами. Сюда обычно никто не приходил. Только иногда девочка видела крошечную старушку в черном из палаты на третьем этаже: та гуляла на солнце или неподвижно сидела у забора из плоских досок, подставив теплым лучам лицо с закрытыми глазами, и тогда становилась похожа на высохшего черного жука; так она сидела, пока