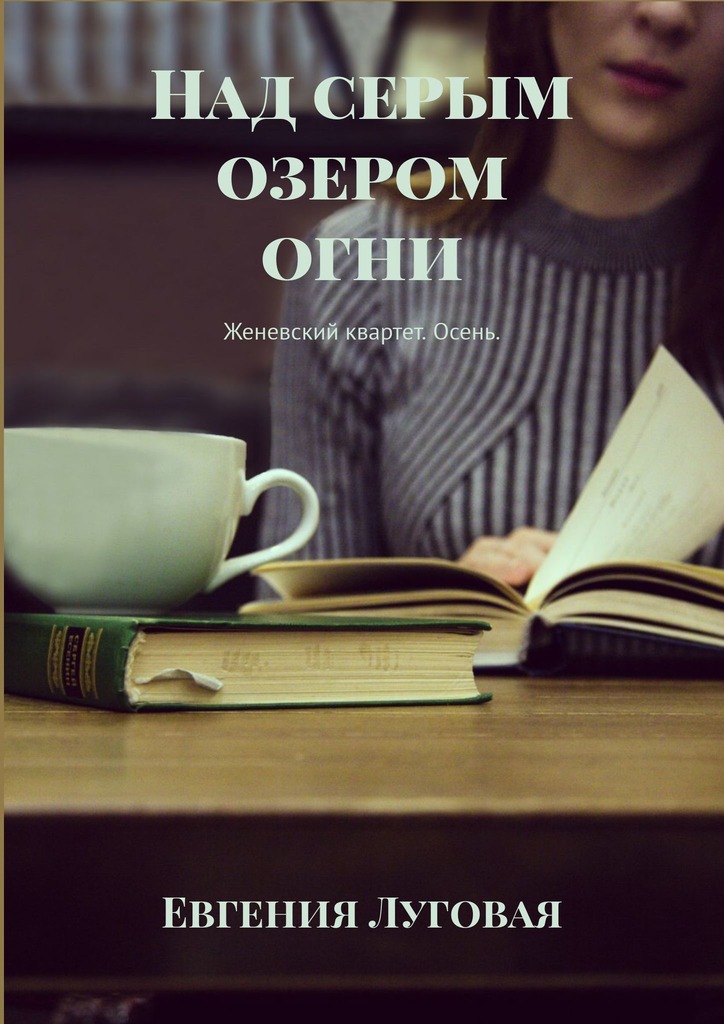не думали перед тем, как что-то сказать, воспринимали информацию в чистом виде, не нуждаясь в переводе отдельных фраз и идиом. На языковых курсах все были равны, не так страшно было ошибиться, выбрать неправильный артикль, перепутать род или аксан, но на факультете права оказалось гораздо меньше иностранцев, чем она ожидала. И почти совсем не было русских, с которыми можно было бы на секунду перенестись домой, посмеяться над чем-то одинаковым, нырнуть в удобные воды игры слов или местных шуток. Порой она чувствовала себя героем второй части трилогии Кесльевского «Три цвета: белый», чужого и растерянного в фейерверке парижской жизни, нелепого и жалкого в лучах красоты молодой французской жены, расправляющего крылья только под спасительным небом родины. Может родина – это ответ на все вопросы? Или сдаваться рано?
Неожиданно для самой себя Ева увлеклась римским правом. Аудитории оставались полупустыми, многие говорили, что профессор не может увлечь никого своим предметом, бубня что-то малопонятное себе под нос и рисуя на доске чудные змейки понятий и слов на латыни, но ей интересно было узнать, с чего все началось. Как люди, жившие несколько тысяч лет назад, могли придумать систему, использующуюся до сих пор, как они могли достичь такой ступени развития за века до возникновения гуманного и толерантного общества, не говоря уж о технологиях и достижения науки. Им открывались другие порталы, щедро раздающие знания, они предвидели большинство правовых ситуаций, в которых люди оказываются и по сей день. В горчично-желтом учебнике, автором которого кстати был сам профессор, она подчеркивала розовым маркером отрывки глав о передаче собственности, mantipacio 16, вербальных и письменных контрактах и правах рабов, и будто переносилась в древний Рим, в Константинополь, пылающий алым солнцем.
Семинары мало чем отличались от лекций: учеников разделили на три группы, якобы для улучшения качества восприятия информации, но среди двухсот человек было так же легко затеряться. Вместо того, чтобы спрашивать их, давать им какие-нибудь тесты или работы, проверяющие знания, преподаватели подробно рассказывали, как надо было сделать домашнее задание. Многие пристрастились ничего не делать дома и потом бездумно записывать выложенное на блюдечке решение, которое ни на минуту не приближало к пониманию предмета. Обучение было рассчитано на самодисциплину, самостоятельную работу, продолжающуюся за стенами университета, но мало кто обладал подобной силой воли.
По крайней мере она не обладала, хотя раньше считала себя довольно усидчивой. Годы беспечной, но успешной учебы в московской школе внушили ей иллюзию о том, что если ты умный, можно особенно не стараться, потому что всегда можно выехать на общей эрудиции, разобраться с любыми заданиями ситуативно, с наскоку. Здесь же такая модель поведения оказалась бесполезной.
Она заметила, что среди учащихся есть еще более странные и нелюдимые, чем она сама, персонажи. Несколько раз на уголовном праве она сидела с девочкой, которая рисовала животных в синем скетчбуке. Она никогда не следила за темой семинара, не поднимала головы от рисунка и прерывалась только чтобы заточить очередной карандаш. Ева смотрела, как под ее беспокойной рукой на листах оживают розовые кролики с грустными глазами, целые семьи радужных жирафов и толстые кольца змей с серебряной чешуей. Наверное, она тоже не пошла в художественный, потому что родители сказали ей, что это несерьезно, бесперспективно. Как ей самой сказали, что «какой-нибудь учитель» семье точно не поможет, а писать она может и занимаясь любым другим делом. Еве казалось, что у девушки талант, что он бьет изнутри, как источник святой воды из случайно найденной скважины. Давить его как беспомощного муравья казалось преступлением, для которого еще не придумали статьи в уголовном кодексе.
Еще один раз во время сонной утренней лекции по конституционному праву один пухлый китаец на заднем ряду поднял руку, чтобы спросить о чем-то учителя.
– Я люблю пиво! – воскликнул он радостно, заразительно засмеялся и выбежал из аудитории.
Ева потом слышала от кого-то, что он был пьян. По какой еще причине человек может быть радостным в восемь утра? Впрочем, она была рада, что хоть кому-то весело и что кто-то еще знает, чего по-настоящему хочет от жизни.
Она сама честно старалась следить за тем, что говорили профессора. Брала ручку, тетрадь в клетку с красивой обложкой, чтобы вдохновляло писать в ней; заставляла себя вникать, разбирать, спрашивать, если упускает мысль, но решимость стать хорошей ученицей таяла после первых двадцати минут, ручка незаметно выпадала из рук, и Ева уносилась в другие миры. Вспоминала прошлое, мечтала о будущем, писала внезапно катапультирующие мозг стихи на обрывках учебных распечаток, на страницах учебников или завалявшихся в сумке салфетках, украдкой прочитывала пару строчек книги, а потом не могла остановиться до конца главы. Одна строчка была для нее пряничной крошкой, ведущей к дому самой могущественной колдуньи – литературы.
После она обвиняла себя в рассеянности, слабоволии, но в то же время с каким-то затаенным самодовольством считала себя диковинной перелетной птицей, чуждой обывательской организованности и рутинной механической зубрежки. Жалко только, что птицам и животным, куда сложнее добиться успеха на экзаменах – а именно эти результаты и являлись мерилом успеха в том единственном мире, что был ей предложен.
Когда они с мамой жили вместе, та часто ловила ее с книжкой во время подготовки к урокам и экзаменам и просила дочь стать серьезней – будто путешествия по книжным вселенным делали ее лентяйкой, не думающей о собственном будущем.
– Но ты ведь сама всегда много читала! – вяло оправдывалась Ева.
– Верно, но училась еще больше, – парировала мама, – следующие несколько лет тебе бы лучше вообще ничего не читать, кроме учебников и ни о чем, кроме учебы не думать.
Едва ли на свете были более жестокие просьбы. Даже китайские и японские пытки казались ей пустяком по сравнению с этим советом. И это они называли лучшим временем жизни?…
Зато ей нравились редкие вечерние лекции в другом университетском корпусе – с наступлением сумерек все казалось осмысленнее и загадочнее, даже тон голоса лектора сам собой становился мягче, словно он понимал, что не стоит слишком утомлять студентов всей этой чепухой. Так приятно было выходить после в расцвеченную огоньками ночь, видеть возвращающихся с работы людей, улыбающихся собственным планам, и понимать, что скоро можно будет прийти домой, прочитать пару глав хорошей книжки и коснуться головой спасительной кувшинки подушки.
После дневных занятий она сидела в университетском кафетерии, стены которого почему-то украшали репродукции картин Марка Ротко 17, но быстро поняла, что ежедневный рис или макароны с плохо прожаренными котлетами втридорога ее мало прельщают. К тому же, ей было грустно смотреть на смеющиеся компании, сдвигающие к столу больше стульев, чем помещалось, в то время как за ее столиком для четверых было три лишних.
Приятной альтернативой столовой стало тихое кафе у вечно закрытой церкви, где можно было уткнуться в книгу и утопить свою неприкаянность в розовой чашке кофе со сливками. Размеренность ритуалов успокаивала – поэтому она не уставала подолгу ходить в одно и то же место. Она любила сидеть там и рассматривать людей, ловить обрывки их разговоров, вникать в странные отношения между ними, домысливать концовки разворачивающихся вокруг историй. Несмотря на свою любовь к чтению, в общественных местах, она почти никогда не погружалась в книгу полностью, без остатка, всегда оставаясь немного на поверхности, страшась пропустить что-нибудь важное, впитывая все оттенки, веяния, звуки и смыслы, витающие вокруг. Иногда от этого даже болела голова – слишком много надо было вместить, а потом расфасовать по внутренним полочкам, пометив необходимыми ярлыками, как баночки с вареньем в серванте.
Самым ярким впечатлением сентября для Евы стали стихи Эдгара По, отвечающие меланхоличным настроениям ранней осени, особенно «Ворон» в бесподобном переводе Зенкевича. Ее поразила магическая закольцованность поэмы, похожей на змею, пожирающую свой хвост, этот мелодичный напев, совершенная по свой форме тоска об ушедшем, об умершей возлюбленной