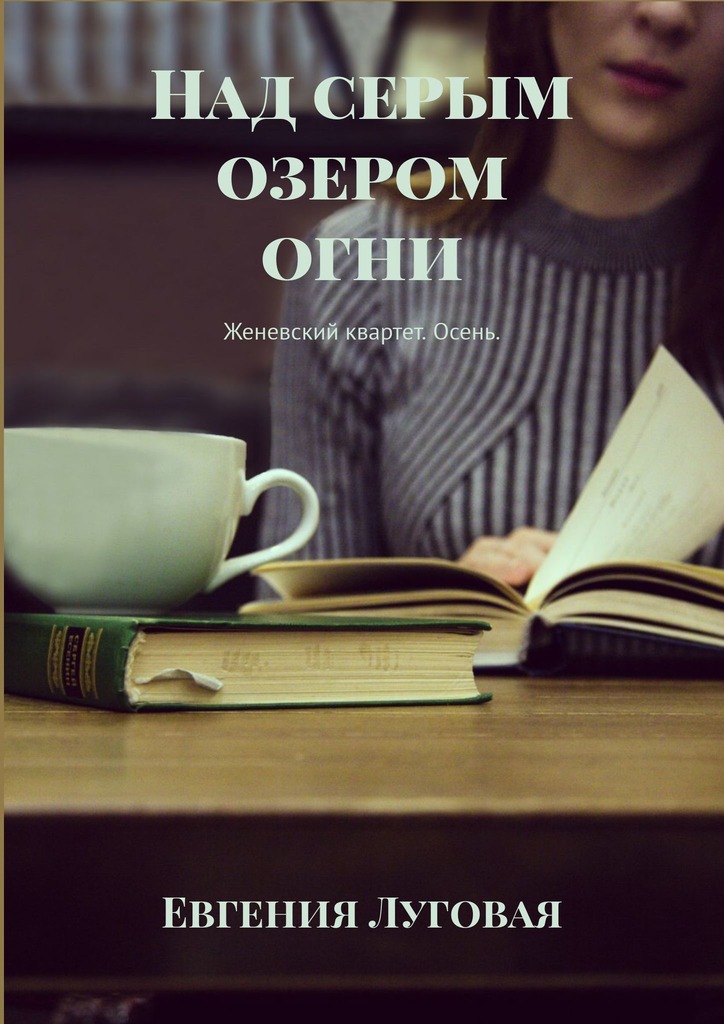и надвигающейся смерти. «Тьма – и больше ничего» – написала она на форзаце одного из учебников, и каждое слово этой фразы казалось ей бесподобной конфетой с пьяной вишней, пряно растекающейся во рту. И «Nevermore» 18, рассекающее воздух, как тяжеленный колокол дворцовую тьму.
Она любила неожиданно выхватывать из текста фразы, цитаты или эпиграфы дротиком попадающие в мишень ее сердца. Это случалось реже, чем хотелось бы, но в такие моменты ей казалось, что автор оставил послание именно для нее, будто знал, что она когда-то это прочтет и все поймет. Она верила в непостижимую связь времен.
В то же время она открыла для себя повесть Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге», столь же притягательную в своей мрачности, как стихи По. В ней ее любимый Брюгге, такой сказочный пряничный город в реальной жизни, напоминал больную скрученную старуху, тщетно пытающуюся согреть пальцы у камина. Он стал пропитанной ядом декорацией, в которой медленно сходит с ума герой с невыносимо поэтичным именем – Гюг Виан. Да и сама проза Роденбаха – чистой воды поэзия символизма, совершенный в своей простоте декаданс, ужасное и прекрасное одновременно гниение красоты. Повесть короткая и лаконичная, но в ней спрессовано столько безысходности и отчаяния, что memento mori 19 перестает быть отвлеченной грустной фразой, разрастаясь сонмом ужасных смыслов и откровений. Мы все умрем. Ничто в жизни не имеет смысла. Посмотри в эти черные воды и умри еще при жизни.
Как ни странно, мрачные книги скорее вдохновляли ее, чем угнетали. Она брала книгу в библиотеке, в которую недавно записалась, и потом ужасно не хотела отдавать. Пыталась найти ее на книжных развалах или на полках книжных магазинов, но продавцы всегда разводили руками и говорили, что Роденбаха у них точно нет, словно его имя предали анафеме. Тогда она подумала, как много хороших писателей затерялось в складках истории, потесненные более удачливыми коллегами, новенькие переиздания которых теснились на полках магазинов. И почему одним всегда везет больше, чем другим?
Главной формой медитации для нее стали автобусы. Большие, чистые и прохладные, как энергетические капсулы из фильмов про будущее – они словно погружали в безвременье, отвлекали от суеты ежеминутно сменяющимся спектаклем прекрасного за окнами, галереей умиротворяющих видов: автобус номер А возил ее в чудесную деревушку Кар д'Амон, прячущуюся под склоном; 33 приглашал затеряться в полях мертвых подсолнухов и засыхающих виноградников, над которыми сновали мифические вороны. Выйдя на одной из остановок маршрута Z, она увидела железное тело снижающегося самолета, летевшего совсем низко и подумала о всех тех людях, что в данную секунду летят в тысячу разных направлений, и никто из них не знает точно, что их ждет. В Женеве даже можно было найти автобус, следующий au bout du monde 20. Польстившись на такое поэтичное название, она ожидала увидеть что-то невообразимое, но приехала в хромированно-металлические тенета индустриального района, пропахшие горьким дымом октября. «Символично», – решила она тогда.
Ева слушала любимые песни и пейзажи, отрывки чужих случайно увиденных жизней, капли дождя или преломленные веером лучи солнца вплетались в музыку, становясь одной большой таблеткой успокоительного, отпущенной по ее собственному рецепту. Не факт, что он подошел бы другим.
Посещая очередную швейцарскую деревушку, Ева любила рассматривать домики, отдыхая в ореоле их пасторальности. Подходила совсем близко, слушала звуки старенького радио или неуверенные трели пианино, терзаемого ребенком; дребезжание тарелок, призрачные звуки поцелуев, супружеские ссоры. Размышляла: смогла ли бы она жить так, наедине с природой, не требуя ничего взамен? Тихие вечера в семейном кругу, прогулки по колено в полевых цветах, редкие поездки к родственникам на тарахтящей машине, воскресные мессы в тихой церквушке, где всех вокруг знаешь. Роскошь знать все наперед и не мечтать о большем.
Она невольно сравнивала это с ритмом большого города, в котором прожила большую часть своей жизни, и приходила к закономерному выводу о том, что во всем нужен баланс. В каком-то смысле Женева идеально отвечала этому требованию: вроде бы город, даже если маленький, но окруженный лабиринтом природных богатств – в любую секунду можно сбежать, променять камень на траву. Но иногда так не хватает привычного московского шума, оживленной суеты, пестрого метро, разнообразных кафе на каждом шагу, сотни кинотеатров, в которых можно посмотреть что угодно в любое время суток. В Женеве было всего несколько кинотеатров и обычно она не могла отказать себе в удовольствии тут же посмотреть все интересующие ее новинки, и следующие несколько недель приходилось копить на новые, испытывая духовное и вполне материальное чувство голода.
Иногда Ева прогуливала занятия, терзаясь угрызениями совести. Забывала об обязательствах, проваливаясь в кроличью нору развлечений. Она чувствовала себя инфантильной героиней одного из романов Саган 21 (кажется, это было «Любите ли вы Брамса?»), которая говорила любимому, что уходит на работу, а сама до вечера бесцельно слонялась по городу, рассматривала витрины, читала в кафе, курила одну сигарету за другой. Мучилась от своей бесполезности, от пребывания в болоте праздности, но не могла найти в себе силы стать такой же ответственной, как все вокруг – с их стабильной работой, жаждой менять мир к лучшему и меняться самому. Некоторые из нас до самой смерти остаются капризными детьми.
Однажды перед лекцией по конституционному праву (они проходили фундаментальные права человека, и Ева интересовалась, значится ли там право учить то, что нравится тебе) с ней познакомилась маленькая улыбчивая девушка, посчитавшая, что русские – это почти что сербы. Она любезно ввела Еву в свою компанию – женоподобный парень из кантона Юра, грубоватая немка из Унтервальда, щебечущая о поп-музыке француженка с модным каре и тихий блондин франко-американского происхождения, у которого, как оказалось, умер отец, а недавно тяжело заболела мама.
Еве было до боли жалко его, она не представляла себе, как на фоне такой трагедии, он находит в себе силы учиться. Но для него остервенелая зубрежка, записи ручкой, стремительно порхающей по странице, наоборот были главным лекарством, иллюзорным способом уйти из этой реальности. В такие моменты Ева казалась себе самовлюбленной актрисой, раздувающей страдания из ничего, в то время как других людей рядом с ней гложут термиты по-настоящему серьезных проблем.
Через некоторое время она поняла, что его матери стало хуже: он перестал посещать лекции, бросил университет, и так их осталось пятеро – число, которое ничего особенного не обозначает и не фигурирует ни в каких сказках.
Она стала садиться вместе с ними на лекциях, обмениваться конспектами (вернее было бы сказать, что все они давали конспекты ей, за что она также часто испытывала неловкость), готовиться к семинарам в библиотеке, нещадно нагретой солнцем, проникающим сквозь ромбовидные окна, обедать вместе, гулять по центру Женевы, устраивать рейд по модным магазинам. С ними она впервые в своей жизни посетила бар – забитое битком помещение с мистическим названием «Кракен» 22 и изрисованными этим морским чудовищем, пугающим пиратов, стенами. Она тянула горький фирменный коктейль с кальвадосом и пыталась разговаривать с ними, перекрикивая музыку. Они наконец спрашивали о чем-то личном: о любви, ее жизни в Москве, ее восприятии Женевы. После этого вечера даже ненадолго ожила иллюзия возможности единения, но ее продолжительность оказалась меньше срока годности йогурта.
Ева не чувствовала удовлетворения – она нашла компанию, но не ту, о которой мечтала. Они постоянно звали ее куда-то после лекций, но она часто придумывала отговорки, чтобы заняться своими делами. «Мне надо убраться дома», «Я еще не доделала уголовное право», «У меня что-то разболелся живот» и сотни других причин. Рядом с ними она часто скучала, но успокаивала себя тем, что лучше плохая компания, чем несуществующая. Их интересы расходились, как питерские мосты в белые ночи. Она даже составила краткий (и исчерпывающий) перечень тем, которые затрагивали новые знакомые в беседах в университетской столовой. Они говорили:
1) о разнице французской и немецкой части Швейцарии,
2) о том, как смешно немцы говорят по-французски,