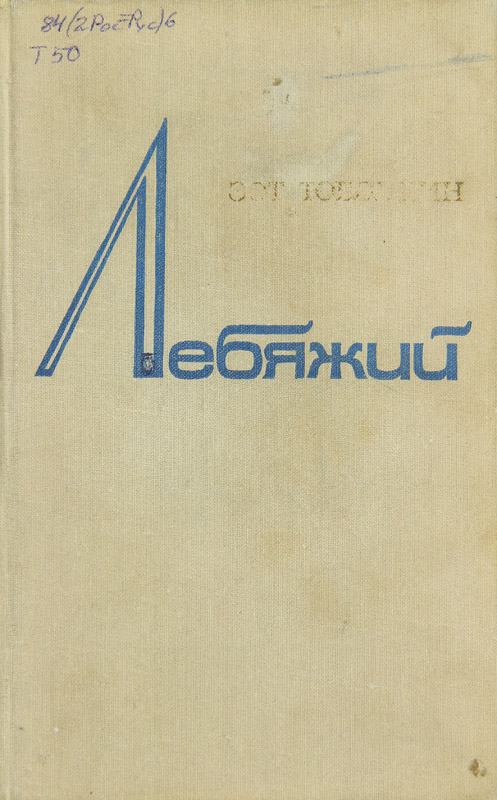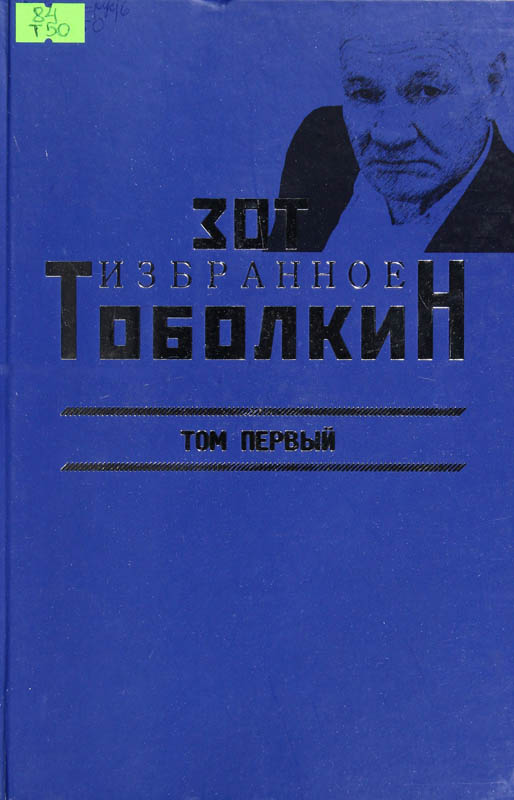по-собачьи отряхнувшись, мертвецки заснул.
– Ум-морил! – вытирая вспотевший лоб, бубнил Евгений Никитский. – Может, и нам слегка обнажиться?
– Старик, не стоит... тут женщина, – возразил второй Никитский, Валерий.
– Но с этой женщиной мы в некотором смысле родня...
– Прекратите шутовство! – визгливо выкрикнула Татьяна Борисовна. Бледные щеки ее покрылись клочьями нездорового румянца. Станееву стало жалко ее, и он разбудил Горкина, велев одеться. – Убирайтесь! – вскричала Татьяна Борисовна. – Все убирайтесь.
– Намек понят. Уходим.
Горкин тряс головой и фыркал, не понимая, что с ним происходит. Татьяна Борисовна перевела его на диван, сняв пиджак и расслабив галстук, уложила.
3
Лукашин вздыхал, ворочался, ворчал на Соболя, которому тоже не спалось, и пес возился и что-то терзал у порога.
– Ты скоро угомонишься?
Скульнув заискивающе, Соболь утих, но ненадолго. Скоро он опять завозился, заурчал. Еще вчера был чистою белой лайкой, но побывал у Степы Рыкованова, вернулся цветастый, как павлин. Грудь стала брусничной, хвост отвратительно лиловым, а вокруг глаз синели издалека видные широкие обводы. Лукашин поначалу не признал его и выгнал, но это странное, нелепого окраса существо не уходило и, поскуливая, добродушно виляло лиловым толстым хвостом.
– Соболь, что ли? А я уж думал, эта самая... колибри, – разглядывая пса, ворчал Лукашин. Проходивший мимо Степа остановился, восторженно покачал головой.
– Ну и собачка! Не собачка, а чистая радуга! Ты где ее приобрел, Паша?
– Маляр паршивый! – задохнулся от гнева Лукашин. – Не ты ли его выкрасил?
– Я, Паша, – не стал отпираться Степа. – В соответствии с производственной эстетикой...
– Я тебя самого... всю морду твою повидлом вымажу! Эс-те-ти-ка! – возмущался Лукашин.
– Повидло – немыслимое наказанье, изобретенное работниками ОРСа для геологов. Его подавали в столовке. Его в нагрузку продавали в поселковом магазине. Бичи перегоняли его на самогон. Всюду было повидло. И этот сладкий, на благо людям изготовленный продукт возненавидели люто. При одном его упоминании у Лукашина начиналась аллергия.
– Повидлом? – задумался Степа. – Повидлом можно. Слижу помаленьку. А что сам не сумею – Соболь поможет.
Лукашин, не умевший долго сердиться, рассмеялся и пригласил приятеля на «рюмку чая».
Хлопотлива должность мастера. Лукашин был въедлив, совал во все дырки нос, и многие, при всем уважении к Лукашину, с нетерпением ждали возвращения заболевшего Крушинского. Постоянная привычка – во все вмешиваться – создала Лукашину славу скандалиста. Да он и впрямь любил поскандалить и делал это по любому поводу. Накануне вечером вломился в балок, который бичи избрали своим жилищем. Нашумел, опрокинул стол с двумя бутылками «бормотухи», кого-то толкнул. Бичи разъярились и взяли его в оборот. Дело могло кончиться плохо, но вмешался Станеев, заглянувший попроведать одного из своих приятелей.
Теперь, слушая воркотню хозяина, невидимо улыбался во тьме, с наслаждением вытягивая в пуховом спальнике большое, отвыкшее от мягкой постели тело.
– Зубами кричигает, зараза! – с собаки Лукашин решил переключиться на гостя. Станеев давно ждал этого момента. – Верно, философа чует. Он у меня терпеть не может философов...
«Не проймешь! Я толстокожий!» – Станеев ухмыльнулся во тьме и легонько всхрапнул.
Темнота баюкала его, погружала в себя, как море.
– Чего носом зурнишь, гусь лапчатый? Не спишь ведь...
– Не сплю, – помедлив, отозвался Станеев. – Все думаю, зачем в бригаду зовете.
– Чтоб человеком стал.
– Я разве не человек?
– Какой ты человек? Живешь хуже арестанта. У того хоть цель есть – свобода. У тебя ничего.
– Когда есть цель – к ней ломятся, ни с чем не считаясь.
– И правильно! И надо ломиться!
– Вы об арестантах говорили... Я видел, летом двое сбежали... Рыбинспектора застрелили. Вот вам цель!
– Я же о нормальных людях говорил, голубь! Нормальный человек цель в деле видит. А ты без дела живешь. Здоровый, умный парень связался с бичами... Стыд-позор!
– Среди них тоже разные люди. Один, к примеру, бывший биолог...
– Ну и дурак! Не пошла ему впрок наука! Я бы таких биологов поганой метлой выметал!
Сон укачивал, тянул в глубину от мыслей о завтрашнем дне, который вряд ли принесет что новое, от глохнущего говорка Лукашина, от возни оранжево-лилового Соболя. Звуки доходили через толщу отуманенного сознания. Борясь с собою, Станеев слушал, отвечал невпопад и задавал вопросы, думая лишь о том, чтобы ответы на них были подлиннее.
– Вас как прибило сюда, Павел Григорьевич?
– Я в геологах с сорок седьмого. Документов не было... удрал из колхоза... А эти приняли без документов. Так и застрял у них...
– Не жалеете?
– Хлеб честный, и дело по душе. Ну спи, ишь прорвало! – заворчал Лукашин, хотя прорвало как раз не Станеева.