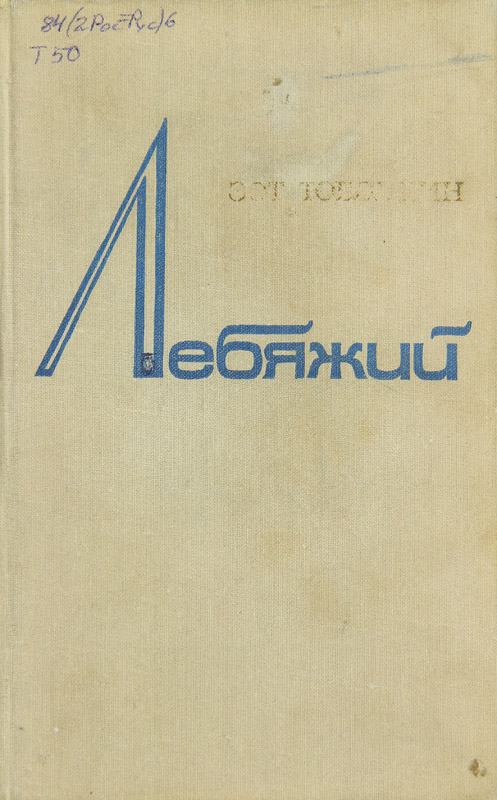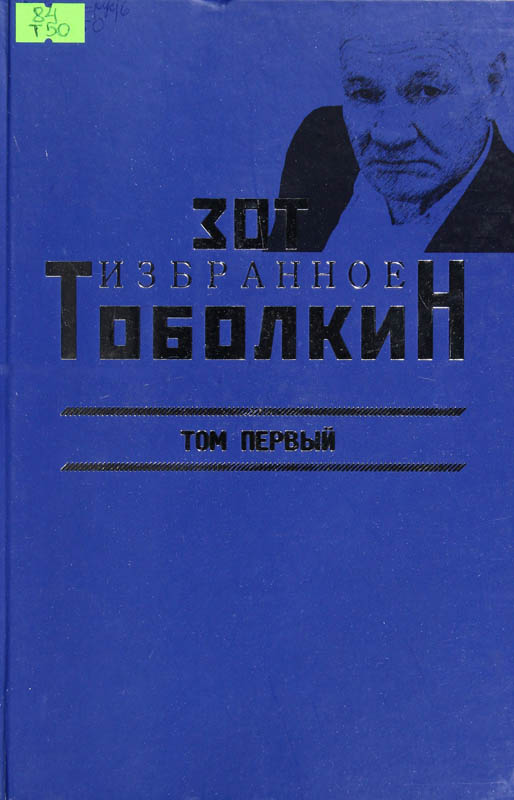Однако спать не пришлось. В дверь, которая на ночь не запиралась, без стука втиснулся Мухин. Включил свет и принялся журить Соболя.
– Чьи-то ботинки изгрыз.
– Наверно, мои, – огорчился Станеев, у которого запасной обуви не было, а деньги вышли.
– Вот же чертов вредитель! Я тебя! – Лукашин вынул из брюк ремень, но Соболь, толкнув лапами дверь, выскользнул на улицу. – Охо-хо-хо! Опять расходы! Да хоть бы на кого путного, а то на бича...
– Не беспокойтесь, сам заработаю, – сердито огрызнулся Станеев, которому однообразная воркотня Лукашина уже надоела.
– Видал, Максимыч? Бич-то с гонором!
– Бич? – удивился Мухин и разочарованно вздохнул. – А мне сказали, что он стропальщик.
Станеев нахмурился: им, кажется, занялись всерьез. Считая себя человеком независимым, он не допускал вмешательства в свою судьбу.
– На мораль не тратьтесь... Толку не будет.
Но Мухин равнодушно отвернулся, словно забыл о его существовании.
– Извини, Паша, что потревожил. Проветриться вздумалось. Одному дорога широка.
– И я собирался, да этого бегемота разве сдвинешь? – засуетился Лукашин, догадываясь, что Мухин зашел неспроста.
На электростанции, отрывисто покашляв, заглох движок. Свет погас, и все, что было вокруг, – дома, вышка с антенною наверху, балки, тягач подле конторы – слизнул мрак. Ни звука, ни шороха. На термометре минус сорок семь. А двое бредут по поселку, покуривают. За ними, невозмутимый, тащится пес.
– Морозец по-нашему трудится! – оттирая нос, кряхтел Лукашин. – Нос прихватило.
– Зайдем ко мне. У нас, кажется, есть свечка, – пригласил Мухин.
– Поздно. Давай уж здесь потолкуем, – поеживаясь, сказал Лукашин. Оделся легко, и его пробрало до костей.
– Идем, идем.
Мухин занимал в четырехквартирном рубленом доме две комнаты. Отыскав свечку, зажег, высветив чуть подретушированный портрет улыбающейся женщины в медицинском халате, в шапочке, казавшейся игрушечной на мощных гривастых волосах. У противоположной стены в строгом порядке на полках книги, а вот журналам уже не хватило места, и они – английские, русские, немецкие – лежали стопками на полу.
Лукашин сел на диван. Сдвинувшись ближе к валику, выжидательно уставился на Мухина. Мухин не спешил. Впустив Соболя, дал ему кусок колбасы и, покачивая головой, принялся изучать диковинный окрас собаки.
– Долго еще резину тянуть будешь? – нетерпеливо спросил Лукашин. – Зачем звал?
– Насчет Лебяжьего хочу посоветоваться.
– Помешался ты с этим Лебяжьим...
– Точно: навязчивая идея!
Мухин легонько приподнял гостя с дивана и, взяв свечку, подошел к карте. Несоответствие в росте было разительно, но разговаривали они, не замечая этого неудобства.
– Будишь среди ночи, а сам уж давно все вырешил...
– Ты вождь наш партийный, Паша. Без твоей поддержки я как без рук.
– Ладно, ладно. Мозги не пудри, – Лукашин рассмеялся и, выскользнув из-под руки Мухина, сделал пару кругов. – Если нужно согласие – я согласен.
– За нарушение приказа Саульский может дать по шапке.
– Лишь бы не по голове, – отмахнулся Лукашин, но Мухин прервал его, повторив все то, что еще недавно говорил Саульскому.
– Не пойму я, – помедлив, сказал Лукашин, – какого рожна нас в Белогорье толкают? Да еще своим ходом... Техника – не Христос, по болотине не погонишь... Ей твердая земля нужна под ногами. А от Лебяжьего сплошные трясуны, озера да речки...
– Не веришь, значит, в библейские чудеса?
– Не положено. Атеизм проповедую.
– Что ж, так и заявим начальству. Мол, застряли на Лебяжьем во имя атеистических принципов... Людей- то готовь исподволь... чтобы оценили всю выгоду прогиба.
– Это уж моя ком-пе-тен-ция, – в особых случаях Лукашин не прочь был ввернуть мудреное словечко. Ввернул и сейчас.
Внезапно загорелся свет, выхватив из темноты довольные лица двух заговорщиков.
– Ой-ё-ёй! – взглянув на часы, заспешил Лукашин.– Точим лясы, а времени-то вон сколько!
– Сколько? – знавший секрет его часов, усмешливо спросил Мухин.
– Так, наверно, часа три, не меньше, – предположил Лукашин и спрятал часы. Часы после встряхивания затикали.
Вытолкнув Соболя, он ушел. Свет снова погас. Мухин разделся и на цыпочках прокрался к жене.
– Я все слышала, – подвигаясь, сказала Раиса.
– И как? Осуждаешь или одобряешь?
– Тебя же не переубедишь, если веришь, что прав.
– Когда прав – зачем переубеждать? – Мухин поцеловал ее в округлое теплое плечо и крепко прижал к себе.
– Ах, Ваня! Ты не стареешь!
«Старею! – чуть слышно вздохнул Мухин и слегка помассировал пальцами грудь. Сердце покалывало. – Сколько же лет мы вместе? Тринадцать? Нет, однако, четырнадцать...»
– Ваня, помнишь, как мы