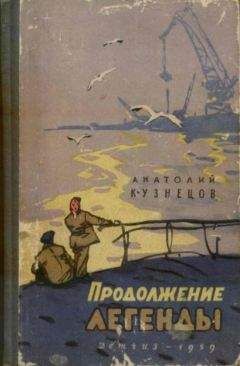На мосту собралось много народу, подходили все новые, кричали сверху:
- Эй, ребята, вас откуда гонят? Куда?
С моста в колонну летели пачки папирос, сигарет, завернутые в бумажку деньги. И вот тут откуда-то явился тип в штатском, спросил что-то начальника конвоя и с места в карьер начал разнос:
-Куда это годится?! Вас предупреждали, чтоб не водили колонны на виду у всего города? Начальник оправдывался:
- Да не дают нам ночных поездов, мы сколько раз просили. Нам самим неприятно, послушайте только, что о нас говорят на мосту.
- Еще бы! собрали публику, как в театре. А милиция разгоняй!
Я вспомнил: сколько раз читал, как в России всегда, всю ее историю, простые люди жалели арестантов, давали им хлеба, в деревнях выносили попить молока. Достоевский пишет, что в праздники острог заваливали всякой снедью, калачами, пирогами, мясом. А теперь вот гонят, смотреть даже не велят.
Наконец, последний этап, во Владимир. Когда группу выводили через коридор горьковской пересылки, нам навстречу прогнали другую такую же группу - вновь прибывших. Позади всех шли несколько заключенных в наручниках - значит, смертники, приговоренные к расстрелу.
- За что обручили? - спросил кто-то из наших. Один из смертников успел ответить:
- Нападение на милицию.
Это были осужденные то ли из Мурома, то ли из Александрова. В обоих этих городках произошли одинаковые события, и откуда была именно эта группа, я позабыл. Дело там было такое: в милиции после побоев скончался один парень. Это вызвало взрыв - как избивали в милиции, знали многие. В результате - нападение на милицию, и вот цепь смертей: убийство парня, убийство милиционеров, смертный приговор нападавшим.
Владимирка
Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи...
Грибоедов
1. Прибытие
Пассажирский поезд, к хвосту которого был прицеплен наш вагонзак, прибыл во Владимир в три часа ночи. К перрону уже были подогнаны "воронки", нас набили в них, как кильку в бочку, и помчали по ночным улицам древнего русского города... Я вспомнил, что когда-то читал, как Герцен, еще до отъезда за границу, стоял, бывало, на балконе своего дома здесь, во Владимире, и смотрел на каторжников в кандалах, которых гнали по знаменитой Владимирке "из России в сибирские дали". Вспомнил "Владимирку" Левитана - я видел открытку с репродукцией этой картины. Теперь, наверное, нет уже этой разъезженной, истоптанной ногами каторжников дороги. Нет и кандалов. Нас никто не видит, о нас никто не помнит, кроме наших тюремщиков. И нет нынешнего Левитана или Герцена, который рассказал бы о наших этапных путях сегодня, в 1961 году.
Пока я думал об этом, машина остановилась. Приехали. "Выходи!" Дверца открылась, и я перешагнул прямо из задних дверей машины в дверь здания, к которому нас подогнали вплотную. Меня повели по коридорам и привели в большой зал; здесь уже было полно заключенных, прибывших в эту ночь, - и знакомых, и незнакомых: были и уголовники - их все время подсаживали в наш вагон по пути из Горького во Владимир; правда, везли нас отдельно и здесь тоже разместили по разным камерам, увидел я их ненадолго, только в этом зале, а потом их увели.
Нас рассовали по боксам - крохотным норам в каменной стене, каждая на одного человека. Из них вызывали с вещами по одному. Обычный опрос: фамилия, имя, отчество, статья, срок... Потом тщательный обыск, раздели догола, осмотрели с ног до головы, раздвигали даже пальцы ног, ощупывали подошвы, заглядывали в задний проход. В личных вещах перещупали каждую ниточку, отобрали все, кроме того, что было надето. С собой разрешили взять две пары бумажных носков, два носовых платка, зубную щетку и порошок. Все. Ни запасной пары трусов, ни шерстяных носков - ничего. Все отобранные вещи записали в квитанцию, и вместо ничтожного имущества зэков, которым он, тем не менее, очень дорожит (носовые платки, может, память, подарок жены или матери; теплые носки - впереди зима, и в каменной камере с каменным полом они пригодились бы), - вместо отобранных вещей каждый получил бумажку-квитанцию. Из продуктов могли взять с собой только дорожную пайку 700 граммов хлеба (только черного) и одну селедку. У кого был какой-никакой лагерный запас - может, несъеденный сахар за десять дней, может, остаток передачи или купленное в ларьке, - пришлось с этим запасом расстаться. После обыска и опросов нас повели через тюремный двор. В стороне от остальных корпусов, позади больничного корпуса, за высоким забором, отгороженный ото всей тюрьмы, - корпус для политзаключенных. Даже тюремные надзиратели не пройдут туда без специального разрешения. Нас ведут мимо больничного корпуса, и в это время оттуда доносится крик: - Караул, коммунисты издеваются! - наверное, здесь находятся и душевнобольные. Надзиратели сразу заторопили нас:
- Быстрей, быстрей, нечего по сторонам глазеть.
Нас остановили около крайней двери корпуса, надзиратель отпер дверь ключом, впустил нас и снова запер дверь. С пло щадки, на которой мы очутились, шла лестница на верхние этажи; здесь же была еще одна запертая дверь. Надзиратель открыл ее ключом и впустил нас в коридор первого этажа. Дверь за ним снова сразу же закрылась на ключ, а нас развели по камерам. Камеры были пустые, нас поместили в них временно, до бани и окончательного распределения.
Здесь мы и встретили первый тюремный подъем. Очень громко, низким басом загудел какой-то механизм, и сразу же по коридорам забегали надзиратели, стуча ключами в двери камер: Подъем! Подъем! В карцер захотели? - это, наверное, тем, кто замешкался. Минут через пять в двери нашей камеры загремели ключи, и нас повели на оправку. Потом дали завтрак: 500 граммов черного хлеба на весь день, штук по семь-восемь мелкой, расползающейся, как кисель, ржавой кильки; по миске супа, в котором не было ни жиринки, ни крупинки, или кусочка капусты или картошки. Это была тепловатая мутная жижа, которую мы пили через край. Миски после такого супа и мыть незачем.
Часов в девять нас повели в баню. Главная процедура здесь не мытье, а стрижка. Голые, в чем мать родила, покрывшиеся гусиной кожей, - хоть это и называлось баня, но здесь было довольно холодно, - мы по одному попадали в руки парикмахера - зэка-уголовника. Стригут голову, той же машинкой бороду и усы - в тюрьме эти украшения запрещены. Увидев такое дело, старый украинец с длинными усами чуть не заплакал:
- Мени 65 рокив, и вуса в мене, ще як я парубком був...
Он наотрез отказался сесть под машинку. Тут же несколько надзирателей схватили его за руки и за ноги и уволокли. (Я встретил его через год в этой же тюрьме. Конечно, он был без усов. Он рассказал мне, что его затащили в какую-то темную клетушку, надели наручники и сначала основательно избили, а потом в наручниках остригли усы. За "бунт" он получил 10 суток карцера).
У меня тоже были усы: у многих заключенных-религиозников были бороды, усы. Всех нас ждало то же, что и этого украинца. Первым после него была моя очередь. Я сел на скамейку, и парикмахер принялся за мою голову. Он прошел по ней несколько раз машинкой и перешел к усам. Я сказал, что не дам стричь: даже в моем деле я на всех фотографиях с усами. Зэк-парикмахер отошел к надзирателю:
- Вот он тоже не хочет. - Два надзирателя (Ваня и Саня) схватили меня, заломили мне руки за спину, свалили на пол, и пока они вдвоем держали меня, а еще один надзиратель за уши поворачивал мою голову, парикмахер в два счета оставил меня без усов. То же самое сделали и с двумя религиозниками. Остальные уже не противились. В карцер нас не сажали: первого посадили для острастки, и хватит пока. А может, некуда уже было сажать?
После стрижки нас всех впустили в помещение для мытья: несколько скамеек, десятка два тазиков, один холодный и один горячий кран. К кранам сразу же выстроилась очередь. Едва последние успели набрать воду, как надзиратели принялись выгонять нас:
- Довольно, намылись! - В подкрепление они перекрыли горячую воду. Поневоле пришлось идти в раздевалку. Вытирались какими-то серыми лоскутами-полотенцами, выданными каждому. Одеться нам не разрешили: все, что было на нас, мы должны сдать в каптерку, а взамен нам выдадут тюремную одежду.
Не могу передать, до чего мне было противно в первый раз надевать казенное белье, которое до меня носило Бог знает сколько заключенных. Кальсоны, рубашка, форменные бумажные брюки и куртка, брезентовые ботинки с крохотными лоскутками-портянками, форменная арестантская шапка, телогрейка (или бушлат) - все ношеное-переношеное, латаное-перелатаное. Белье такое ветхое, что надевать приходилось с опаской: того и гляди разлезется в руках. Наши собственные вещи мы связали в узелки, а у кого были мешки, уложили туда, на каждый была навешена бирка с фамилией, а взамен получили еще по одной квитанции.
После бани нас заперли в тех же камерах, на первом этаже, и стали вызывать по одному. Дошла очередь до меня. Надзиратель привел меня в какую-то кладовую. Здесь мне велели еще раз раздеться догола. Пока один из надзирателей ощупывал мое барахлишко - только что полученную мною в тюрьме одежду, несколько других снова обыскали меня совершенно голого. Мне было велено вытянуть руки вперед, несколько раз присесть и встать; меня перещупали снова во всех положениях. Потом разрешили одеться и выдали под расписку постель: матрац, такой твердый и тяжелый, как будто его набили кирпичами; серый чехол на матрац вместо простыни; такую же, как матрац, комковатую подушку; еле живое фланелевое одеяло. Кроме того, выдали алюминиевую миску, кружку и ложку. Со всем этим имуществом меня повели по тюремному коридору. Около камеры № 54 велели остановиться. Надзиратель отпер дверь - я в камере, в которой, может быть, мне придется просидеть ближайшие три года.