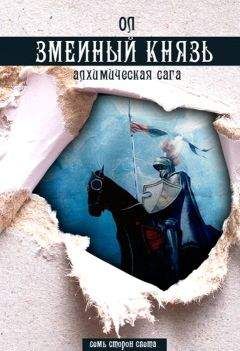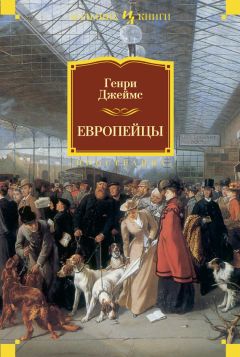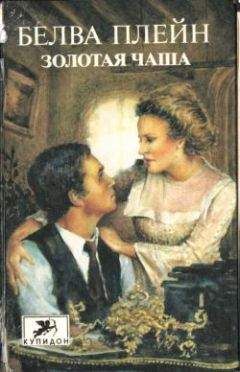получается неловко. – Много ли там было… Как далеко у них зашло дело? – поправилась миссис Ассингем.
Мегги терпеливо выслушала ее сбивчивую речь, но ответила тоже вопросом:
– Ты думаешь, он знает?
– Хоть что-нибудь? О, про него я ничего не могу сказать. Он мне не по зубам, – высказалась Фанни Ассингем.
– А сама ты откуда знаешь?
– Много ли?..
– Много ли.
– Как далеко?..
– Как далеко.
Фанни добросовестно уточнила вопрос, но тут вдруг ей кое-что вспомнилось, и как раз вовремя; она даже улыбнулась.
– Я тебе уже говорила – я ровно ничего не знаю.
– Так ведь и я тоже, – сказала княгинюшка.
Ее подруга снова замялась.
– Значит, никто не знает? Я о том, много ли знает твой отец, – пояснила миссис Ассингем.
О, Мегги тут же доказала, что прекрасно ее поняла.
– Никто.
– Даже Шарлотта… совсем чуть-чуть?
– Чуть-чуть? – эхом откликнулась княгинюшка. – Для нее знать хоть что-нибудь было бы уже достаточно.
– Стало быть, она и того не знает?
– Если бы она знала, – ответила Мегги, – знал бы и Америго.
– Вот, значит, как… Он не знает?
– Значит, так, – проникновенно сказала княгинюшка.
Миссис Ассингем призадумалась.
– Что же в таком случае держит Шарлотту?
– Именно это и держит.
– Незнание?
– Незнание.
– Пытка? – изумилась Фанни.
– Пытка, – подтвердила Мегги со слезами на глазах.
Ее подруга приметила и слезы.
– А как же тогда князь?
– Что его держит? – переспросила Мегги.
– Что его держит.
– О! Этого я не могу тебе сказать!
И княгинюшка быстро ушла.
Рано утром принесли телеграмму за подписью Шарлотты: «Приезжаем, приглашаем на чай в пять часов, если это вам удобно. Телеграфируем Ассингемам приглашение на ланч».
Этот документ, в котором можно было вычитать множество самых разных значений, Мегги немедленно показала мужу, заметив при этом, что отец с женой, видимо, приехали накануне ночью или же в этот день с утра и остановились в гостинице.
Князь был в «своей» комнате, где ему теперь часто случалось сиживать в одиночестве. Вокруг него было разбросано с полдюжины раскрытых газет, среди которых видное место занимала «Фигаро», а также «Таймс», но сам он с сигарой в зубах и тучей на челе был занят тем, что расхаживал взад и вперед. В последнее время Мегги несколько раз заглядывала к нему сюда по той или иной надобности, но никогда еще он не производил на княгинюшку такого сильного впечатления, как сейчас, когда стремительно обернулся к ней. Причиной тому отчасти было его лицо, пылавшее, точно в лихорадке, и невольно напомнившее Мегги упрек Фанни Ассингем, высказанный недавно под этой самой крышей, что она слишком много «думает», не давая никому возможности угадать ее мысли. Мегги не забыла этих слов, но думать от этого стала только больше, и потому, стоя перед Америго, в первую минуту почувствовала себя виноватой, что ненамеренно вывела его из себя. Она и сама знала, что в последние три месяца, разговаривая с мужем, постоянно имела в виду определенную идею, которую, впрочем, прямо не высказывала, а закончилось все тем, что он порой поглядывал на нее с таким видом, точно подозревал у нее не одну идею, а по меньшей мере пятьдесят, направленных на самые разнообразные цели, с которыми необходимо было считаться. Мегги ощутила вдруг странную радость оттого, что пришла к нему сейчас по такому абстрактному поводу, как телеграмма. Но, вступив под столь благовидным предлогом в его тюрьму и обводя глазами стены, замыкавшие в себе его беспокойные метания, она мысленно сравнила его положение с состоянием Шарлотты, еще в начале лета, в просторном и красивом доме, производившей впечатление существа, запертого в золотую клетку. Вот и Америго выглядел сейчас человеком в клетке, и у Мегги невольно защемило сердце, когда он инстинктивно рванулся к двери, которую она не совсем плотно прикрыла за собой. Все это время он не находил себе места от нетерпения, понятного только ему одному, и, когда Мегги оказалась перед ним, это было, словно она принесла свет или пищу в его более чем монашескую келью. Впрочем, его тюремное заключение несколько отличалось от Шарлоттиного; разница состояла в том, что он заперся в четырех стенах по собственной воле и по своему собственному выбору, что отразилось и в том, как он вздрогнул, когда она вошла, словно это тоже было своего рода вторжение. Тут она и почувствовала, как он боится ее пятидесяти идей. Почему-то ей сразу захотелось оправдаться, и это было до того чудесно, что и сказать нельзя. Как будто она вдруг достигла значительно большего, чем намеревалась. В такие минуты она подозревала, что Америго преувеличивает, приписывая ей слишком уж коварные замыслы. Год назад, когда все только начиналось, она спрашивала себя, как заставить его больше думать о ней; а теперь о чем же он и думает? Он не сводил глаз с телеграммы, перечел ее несколько раз подряд, несмотря на ее необычайную простоту, хоть и при наличии явно умоляющего подтекста. Мегги наблюдала чуть ли не с трепетом, и как тогда, в саду с Шарлоттой, ей мучительно хотелось каким-то образом подать знак, что она пришла безоружной. Не было у нее множества зловредных намерений; глядя сейчас на Америго, она сама не знала, куда подевалось то единственное намерение, с которым она сюда направлялась. Ничего у нее не осталось, одна только прежняя идея, все та же, хорошо ему известная, ни тени других. А когда протекли еще четыре или пять минут, не осталось, похоже, даже и одной. Америго вернул ей листок, осведомившись, должен ли он что-то сделать по этому поводу.
Мегги стояла и смотрела на него, затаив дыхание, держа в руке аккуратно сложенную телеграмму, словно некую драгоценность. Из-за этих нескольких напечатанных слов случилась вдруг совершенно необыкновенная вещь. Как-то вдруг почувствовалось, что он на ее стороне, он принадлежит ей так полно, сильно и глубоко, что это ощущение казалось новым и непривычным, будто принесенным морским приливом, расшатавшим его, завязшего в прибрежном иле, и вынесшим на поверхность. Что удержало ее в эту минуту, что помешало протянуть руки ему навстречу, припасть к нему? Вот так же в прошлом, при мысли о них с Шарлоттой, ей столько раз хотелось броситься к отцу. Но она не позволила себе такой неосторожности, хотя сама не могла бы сказать, откуда взялись у нее силы. Сложив наконец телеграмму, она сказала только то, что было необходимо.
– Я просто хотела, чтобы ты знал. Чтобы как-нибудь случайно не разминулся с ними. Ведь это в последний раз, – сказала Мегги.
– В последний раз?
– Как я поняла,