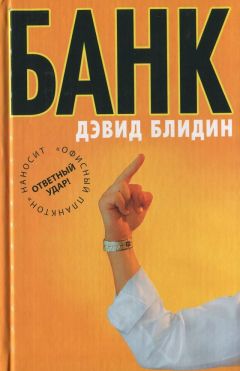— Я уверен, ты стараешься работать как можно лучше.
— Да, самым тщательным образом продумываю подтасовки в финансовой отчетности.
Мы чокнулись бокалами и с удовольствием замолчали. Любопытно, какого взаимопонимания мы достигли, будучи знакомы совсем недолго; обычно лишь через несколько месяцев знакомства я перестаю ощущать острую потребность болтать глупости, чтобы заполнить неловкую паузу. Когда принесли счет, я выхватил свою кредитку. Женщина с Шарфом запротестовала, но я запротестовал еще громче и одержал победу. Тем более что я в любом случае платил не всю сумму, сбрасывая часть расходов на Блудного Сына (тот никогда особо не вникал в мелочи, поэтому, превышая установленный расходный лимит, наша четверка пользовалась им, так сказать, по умолчанию).
Взяв пальто, мы вышли на улицу, под первый обильный снегопад этой зимы. Белые хлопья валили с небес, красиво кружась, и таяли на наших носах и пальцах. Мы неторопливо прошли пару кварталов, держась за руки сначала церемонно, затем по-человечески, и наконец Женщина с Шарфом повернулась ко мне:
— Возможно, это прозвучит чересчур смело… Я так обычно себя не веду, особенно с недавними знакомыми… В общем, хватит вступлений. Я хочу, чтобы ты зашел ко мне в гости. На чашечку горячего шоколада и все остальное.
— Сейчас? — гулко сглотнул я.
Отчеты по альтернативным видам энергии Юный Почтальон должен был представить завтра утром, а я за них еще не садился.
— Да, сейчас, — кивнула она. — Вот в эту самую секунду.
Взявшись за мой ослабленный галстук, она прищурилась и рывком притянула к себе мою голову. Мы уже целовались в «Старбаксе» плюс пара быстрых поцелуйчиков перед тем, как разойтись по лифтам, но этот поцелуй получился особенным, выводящим отношения на новый уровень. Я схватил ее за свободные концы шарфа. Она шутливо ударила меня по рукам.
— Не трогай шарф!
— Хорошо, не трону.
— Я тебя просто дразню, — хихикнула она.
И снова притянула меня к себе. Мы не прерывали поцелуя минуты две, стоя под снегопадом. Крупные снежные хлопья беззвучно опускались на наши головы, и прохожие без зимних шапок хмурились или улыбались, в зависимости от того, одиноки они сами или нет.
— Как хорошо, — восхищенно сказала Женщина с Шарфом.
— Да…
Вздрогнув от холода, она обхватила себя руками и вдруг показалась мне безумно красивой.
— Ну что, готов к чашечке горячего шоколада?
На долю секунды я замялся, и настроение ушло, романтика сменилась мучительной неловкостью.
— Я тебя не принуждаю.
— Нет, я…
Она повернулась и пошла прочь.
— Ладно, забудь.
Я догнал ее и пошел рядом.
— Слушай, не хочу, чтобы такая ситуация превратилась у нас в клише — ты уходишь, не давая мне возможности объясниться. Клянусь, я ничего так не хочу сейчас, как горячего шоколада наедине с тобой. «Горячий шоколад» я употребил в качестве эвфемизма.
Она без улыбки смотрела на меня.
— О'кей, это я повторил на всякий случай, для ясности. Но пойми, сегодня вечером я обещал помочь коллеге, которого завалили работой до отказа. Если бы речь шла о моей собственной работе, так и черт бы с ней, но видишь, как…
— Я все поняла.
Ни черта она не поняла.
— Это не…
Но Женщина с Шарфом уже шла прочь, не оглядываясь, лишь слабо махнув рукой на прощание. Я стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом, а снежные хлопья кружились в воздухе, оседая на мои уши.
Приближалось время выплаты бонусов, и Жаба выглядел законченной развалиной: набрякшие мешки под глазами, галлон кофе в руке, галстук с узлом под правым ухом и жеваный пиджак. Все это часть Жабьей стратегии, как объяснил мне Пессимист: еле ползать с видом крайней усталости, намекая, что безвылазно сидит в офисе, пока светать не начнет (на самом деле уходит самое позднее в полседьмого, на тридцать минут позже остального начальства), с маниакальным упорством взвешивая, заслуживает ли Юный Почтальон лишних пяти сотен долларов или нет. Все рассчитано на отвлечение внимания от очевидного факта: Жаба — всего лишь еще одни бесполезные накладные расходы. Кроме шуток, даже уборщики ценнее Жабы — они отмывают мочу с наших писсуаров.
Я не имею в виду, что начисление бонусов молодым сотрудникам не является задачей первостепенной важности. Экономика чухает вперед довольно ровно — все уже стряхнули с себя вялость и косность медвежьего рынка[32], установившегося после одиннадцатого сентября, и празднуют возвращение к неприлично высоким прибылям и зашкалившему естественному оттоку клиентов. Основной закон и святая истина нашей индустрии: здесь нет места лояльности. Однажды я, между прочим, сказал Волоките-Генеральному, что Банк, по ощущениям, становится моим родным домом. Бог знает, о чем я тогда думал, — возможно, просто подлизывался, как умел, но Волокита откровенно рассмеялся мне в лицо. Наступит вторник, когда нас, как баранов, погонят к Жабе получать конверты из оберточной бумаги, и мы будем тщательно взвешивать свои возможности, прикидывая подходящий маршрут традиционного крестового похода банковского специалиста во имя подрыва равенства доходов и сокрушения остального финансового мира, выбирая между дезертирством в другой банк, где больше платят, или довольно рискованным переходом в хеджевый фонд, основанный старшим братом, или, если фантастически повезет, если есть нужные связи и умение эти связи использовать, — путешествием к святому Граалю торговли, заставляющему любого выпускника бизнес-школы содрогнуться от множественного оргазма: работа в частном акционерном капитале, в отделе продаж. Это возможность утроить свое жалованье и передвигаться личным самолетом, причем клиенты сами будут искать вас и умолять дать денег, а не наоборот. Таким образом, именно на Жабе завязано недопущение массового исхода молодых аналитиков.
Несмотря на демонстративную роль Атланта, держащего мир на своих плечах, Жаба в этом деле не одинок. Каждый банк на Уолл-стрит держит собственную Жабу, ответственную за определение суммы бонуса своим специалистам, такую же толстую, приземистую, сопящую, вечно бурчащую, презирающую мелких засранцев-аналитиков, которых сколько ни корми, все равно сбегут, стоит лишь помахать у них перед носом лишней тысячей баксов. Несколько дней этот консорциум Жаб заседает в своих кабинетах, перезваниваясь друг с другом в обстановке повышенной секретности. После небольшого тайного сговора, прессинга и уступок, вырванных под давлением остальных Жаб, земноводные выведут приемлемый диапазон бонусов для молодых специалистов, сузив, как могут, расстояние между максимумом и минимумом. Затем каждая Жаба уже самостоятельно определяет, куда бить.
Согласно всезнающему Пессимисту, наш Банк предпочитает бонусы от средних до низких.
— Выходишь как опущенный, с холодком под ложечкой, но тебе не настолько плохо, чтобы тут же взять низкий старт к ближайшему выходу. Можно сказать, лучше бы вообще ничего не дали: тогда волей-неволей пришлось бы шевелить мозгами, куда уходить.
Я пытался вытянуть у него побольше информации, чтобы скорректировать собственные аппетиты в соответствии с реальностью, но вопрос оставался открытым. Абсолютным минимумом за шесть месяцев работы я считаю двадцать тысяч долларов — любая сумма ниже этого предела меня не устроит, хотя я еще не обдумывал последствия такого исхода, а максимум, по самым оптимистическим прогнозам, — тридцать две пятьсот. Вместе с основной зарплатой в шестьдесят тысяч это составит от ста до ста двадцати пяти тысяч в год. Лестно сознавать, что это не так уж плохо для двадцатитрехлетнего аналитика, вчерашнего выпускника. С другой стороны, в лежащем в конверте аккуратно сложенном листке сосредоточено все дерьмо, с которым приходилось мириться на протяжении нескольких месяцев: выходные, проведенные на рабочем месте, все не-Банковские знакомства, канувшие в Лету; напряженная работа в три часа утра, невзирая на симптомы гриппа; официальная роль мальчика для битья для всяких уродов вроде Сикофанта.
— Ну что тебе, трудно сказать?
— Не могу, — отозвался Пессимист, откинувшись на спинку стула. — Это нарушение политики компании. Жаба мне голову оторвет.
— Слушай, хватит ломаться!
— На сколько ты рассчитываешь в лучшем случае?
— Минимум двадцать…
Пессимист фыркнул:
— Минимум? Так, значит, ты возомнил, что пара месяцев работы аналитиком стоит — сколько это в год? — сотни косых?
— Пошел ты…
Пессимист обожает садистские интеллектуальные игры. Я уже собирался отвернуться на стуле к очередной электронной таблице, когда он спросил:
— А какой же у тебя максимум?
Я не ответил.
— Не противься мне, Мямлик!
— Тридцать пять… Нет, тридцать.