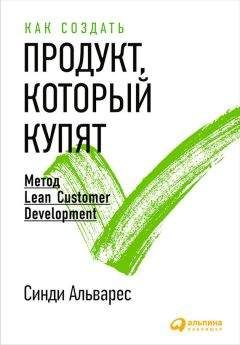Постановкой этой дьявольской драмы и закончился праздник.
В доме было достаточно места, и все господа разошлись на покой по своим комнатам. Утром все хотели рано встать, чтобы посмотреть восход солнца.
Дон Фаустино был так восхищен праздником, так очарован сценами деревенской жизни, сельским пейзажем и особенно Роситой, что ему казалось, будто он перенесся в Золотой век. Он начисто забыл о своих славных предках, о перуанской принцессе и даже о Марии, вообразил себя аркадским пастушком, а Роситу – своей любезной пастушкой.
На следующее утро все отправились – кто на лошадях, кто на мулах, кто на ослах – осматривать Ла-Наву, полюбоваться быками, поглядеть, как батраки делают повторное окапывание виноградников.
Доктор ехал рядом с Роситой, прикованный к ней любовью и чувством благодарности. Росита казалась королевой, которая показывала фаворита другим своим вассалам.
К вечеру господа вернулись в Вильябермеху. Варада батраков по окончании работ тоже разошлась по домам. Во всем местечке только и было толков, что о триумфе Роситы.
Компания из трех дуэтов распалась. Перед дверью дома нотариуса все стали прощаться.
– Прощай, до завтра, – сказала Росита доктору.
– Прощай, мое сокровище.
– Ты меня любишь? Доволен ли ты мною? Счастлив ли ты? – шепотом спрашивала Росита.
Дон Фаустино с чувством сжал ей руку и сказал:
– Я обожаю тебя.
XVII
Ревность сильнее любви
По возвращении доктор, к удовольствию матери, поужинал вместе с нею, чего давно не случалось, так как каждый вечер он пропадал у Жандарм-девиц.
После ужина Висента, прислуживавшая за столом, сразу ушла. Мать и сын остались одни. Донья Ана завела разговор о хозяйственных затруднениях и под конец сказала:
– Дела наши обстоят неважно, но я все же сожалею, что ты не уехал в Мадрид. Я хочу, чтобы ты отправился туда, ломаю голову, где бы найти средства, и готова пойти на новые долги.
– Почему вы так хотите удалить меня от себя?
– Скажу прямо, без обиняков, как и должна мать говорить с сыном. Меня крайне беспокоят твои отношения с Роситой.
– Неужели я должен жить отшельником, ни с кем не видеться?
– Ты совершенно прав. Мне не следовало удерживать тебя здесь. Ядолжна была употребить все усилия, чтобы помочь тебе уехать. Здесь ты невольно опускаешься.
– Матушка, вы употребили очень обидное слово. Почему вы считаете, что я опускаюсь?
– Не подумай, Фаустино, что я виню тебя, напротив, я стараюсь всячески тебя оправдать, Я понимаю, что в твои годы нельзя жить отшельником. Такое чудесное превращение пристало человеку, горячо верящему в бога, чего у тебя, к сожалению, нет. Вам, мужчинам, в отличие от женщин – то ли природа у вас такая, то ли из-за вашей науки, – недостает целомудрия, не хватает стимула, чтобы блюсти свою честь.
– Может быть, и так, но все же замечу, что не все сестры и дочери моих предков постригались в монахини из нежелания породниться с плебеями или из боязни уронить честь нашего рода. Многие из них выходили замуж за разбогатевших погонщиков мулов, за удачливых землепашцев и везучих контрабандистов. У нас есть родственники в самых низах здешнего общества.
– Это мне хорошо известно, дитя мое, но мне известно также и то, что ни один Лопес де Мендоса, ни один мужчина из твоего рода в течение нескольких векав не женился на женщине, неравной ему по происхождению. Ты хочешь быть первым?
– Кто же вам сказал, дорогая матушка, что я собираюсь жениться?
– Тогда зачем же ты туда ходишь? К чему эти ухаживания? Чем все это кончится?
Дон Фаустино густо покраснел, опустил глаза и умолк.
– Все это я могу понять, – продолжала донья Ана, – но ты совершаешь большую ошибку, ты не отдаешь себе отчета в предосудительности такого поведения. Я уж не говорю, что грешно и стыдно завязывать любовные отношения, не помышляя о браке. Предположим даже, что эта самая Росита так бессовестна и безнравственна, что готова принимать тебя просто как друга, так сказать, из любви к свободе и независимости, и не имеет намерений превратить своего друга в законного супруга. Все это я допускаю. Но ты подумал, какую роль ты будешь играть в этих отношениях или уже играешь?
Дон Фаустино ощутил всю тяжесть обвинений, чувствовал себя подавленным и молчал.
– Пороки дворянина, – продолжала донья Ана, – не перестают быть пороками оттого, что он дворянин, но они во сто раз хуже, если ими поражен человек низкого происхождения.
– Матушка, за что вы меня мучаете? Мне оскорбительно слушать все это. Зачем вы так?
– Нет, дитя мое, я мать, я люблю тебя и не могу оскорбить тебя, что бы я ни сказала. Тебе кажется, что мой голос звучит слишком сурово, но отбрось обиды, успокойся и прислушайся к голосу собственной совести: разве он не звучит еще суровее? Я хочу сказать (мы одни, и я могу говорить тебе горькие вещи), что если молодая кровь побуждает тебя завести любовные отношения самого примитивного свойства, то было бы не столь уж неприлично и недостойно дворянина найти их у женщины бедной, низкого происхождения, которую не нужно тешить ложными надеждами. Напротив, ты даже мог бы ее несколько возвысить, приблизив к себе, и вызволить из бедственного положения. При всей твоей бедности ты мог бы позволить себе эту щедрость в нашем местечке. Конечно, ты согрешил бы перед богом и людьми и был бы ужасный скандал, Но, совершив грех и вызвав скандал, ты не был бы унижен, как теперь. Богатая дочка ростовщика-нотариуса принимает тебя в своем доме, везет в свое имение, показывает тебя челяди как своего фаворита, слугу, раба… сутенера. Да, да, не хватало только, чтобы люди говорили, будто она тебя содержит.
Может быть, из-за дворянской спеси донья Ана сильно преувеличивала, но в ее словах была и доля правды. Дон Фаустино чувствовал это. Конечно, его коробила резкая форма и запальчивость, с которой мать выговаривала ему, но в глубине души он ощущал свою вину.
– Поденщики, работавшие в Ла-Наве, – продолжала разбушевавшаяся матрона из Ронды, – толкуют об этом на все лады. Могу себе представить, что они говорят. Девица донья Роса Гутьеррес выказывает тебе свое благоволение, осыпает милостями, приближает к себе, делает своим фаворитом и выставляет напоказ, словно свою куклу, Желая ослепить тебя, раздает направо-налево баранину, дорогое вино. Словом, ведет себя как королева или императрица, которая по капризу вытаскивает из небытия одного из своих вассалов.
Те, кто жил в деревне и хорошо знает деревенские привычки и обычаи, те, кто знает также характер доньи Аны, могут понять ее гнев и раздражение. Злоречивость деревенских обывателей не знает пощады. Донья Ана была права: все, кто видел дона Фаустино и Роситу в Ла-Наве, теперь беспощадно злословили. Все пересуды и сплетни были известны ей от Висенты и от других слуг, и она чувствовала себя пораженной в самое сердце: были задеты ее дворянская гордость и материнская любовь.
– Можешь представить, какой жестокий удар я пережила? – продолжала донья Ана. – Все считают тебя другом и протеже дочери нотариуса. Эти ничтожные люди считают тебя тем, кем был Годой[86] для одной знатной дамы. А раз о тебе так говорят, считай, что все наши честолюбивые мечты и иллюзии потерпели крах. Подумать только: принцесса милостиво протягивает руку и приближает тебя к своей особе. Императрица снисходит до своего милого храброго рыцаря. Разве затем я произвела тебя на свет и воспитала?
Еще никогда дон Фаустино не видел свою мать в таком раздражении и гневе. Он хотел оправдываться, возражать, но не мог вымолвить слова. Между тем донья Ана даже не подозревала, что отношения молодых людей зашли так далеко. Мысль о том, что между ними могла возникнуть любовь, причем так скоропалительно, даже не приходила ей в голову.
Доктор молчал и сидел понурившись. Лгать он не хотел, а кроме того, боялся ненароком оскорбить или огорчить мать.
Молчание сына, его униженный вид, безответность, а также то, что он не делал даже попыток защитить Роситу, умерили гнев доньи Аны, и она продолжала уже в менее резком тоне:
– Не падай духом, Фаустино. Держись с достоинством. Визиты в этот дом надо прекратить. Постепенно отучи их от себя. Сразу не рви – обижать никого не следует. Тем более что нотариус может стать опасным врагом: будет мстить, окончательно подорвет наш кредит, скупит наши векселя, начнет всячески нам вредить и добиваться кашей гибели. Но если ты постепенно прекратишь свои визиты под предлогом нездоровья или занятости, то ни у нотариуса, ни у его дочери не будет причины для обиды. Вся его месть ограничится какой-нибудь глупой сплетней вроде тех, что распространяют на мой счет. Скажут что-нибудь 'вроде того, что ты колдун, что ты общаешься с духом командора Мендосы, с перуанкой доньей Марией или с другими неприкаянными душами из нашего семейства.
– Матушка, – ответил наконец доктор, – сейчас я вам ничего не обещаю, но не сомневайтесь, что я постараюсь исполнить ваши желания. Теперь же я скажу только одно: не моя вина, что поденщики и местные кумушки превратно толкуют мое поведение. Может быть, в чем-то я поступил опрометчиво, но я не уронил чести и достоинства дворянина. Если нотариус богат, а я беден, в этом тоже не моя вина. Могу ли я рассчитывать на богатство, оставаясь здесь? По вашему совету я поехал свататься к кузине Констансии и потерпел неудачу. Теперь вы можете не беспокоиться: я научен горьким опытом и, как бы ни был беден, не стану искать спасения ни у дочери нотариуса, ни у кого другого, будь это хоть сама королева.