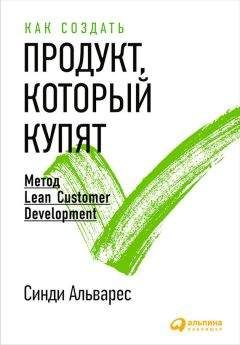– Матушка, – ответил наконец доктор, – сейчас я вам ничего не обещаю, но не сомневайтесь, что я постараюсь исполнить ваши желания. Теперь же я скажу только одно: не моя вина, что поденщики и местные кумушки превратно толкуют мое поведение. Может быть, в чем-то я поступил опрометчиво, но я не уронил чести и достоинства дворянина. Если нотариус богат, а я беден, в этом тоже не моя вина. Могу ли я рассчитывать на богатство, оставаясь здесь? По вашему совету я поехал свататься к кузине Констансии и потерпел неудачу. Теперь вы можете не беспокоиться: я научен горьким опытом и, как бы ни был беден, не стану искать спасения ни у дочери нотариуса, ни у кого другого, будь это хоть сама королева.
Донья Ана страстно любила сына и теперь раскаивалась, что обошлась с ним так жестоко. Напоминание о конфузе со сватовством, который произошел по ее вине, смягчило ее сердце. Довольная последними словами Фаустино, она поднялась со своего кресла, обняла сына и, обливаясь горькими слезами, поцеловала его.
– Какое несчастье! Какое несчастье, что мы так бедны! Нас считают здесь почти что нищими.
Бедняга Фаустино успокоил мать как мог, хотя и сам нуждался в утешении.
Скоро донья Ана ушла почивать, а доктор спустился к себе. Он был очень взволнован и не мог спать, Респетилья хотел помочь ему раздеться, но доктор отпустил слугу и остался один в комнате, где висели портреты его предков.
Он не мог ни писать, ни заниматься и все расхаживал по кабинету в сильном волнении, произносил вслух мысли, которые его одолевали, жестикулировал, словом был вне себя.
«Мать права, – рассуждал он, – она права, хотя и не знает всего. Я поступил глупо. Всему виной временное помутнение рассудка и вспыхнувшая любовь самого прозаического свойства. Если бы я по-настоящему любил ее и уважал, будь она дочерью самого сатаны, я женился бы на ней, вырвал бы ее отсюда и совершил бы чудеса только для того, чтобы прославить свое имя и завоевать положение в обществе. Тогда никто не посмел бы сказать, что всем этим я обязан ей. Но люблю ли я ее? Разве это любовь? Разве тот взрыв безумия похож на настоящую любовь? Нет, под истинной любовью я понимаю другое, я чувствую ее в себе, но она… беспредметна. Я несу в своем сердце все добродетели, великие страсти, благородные чувства, но обречен на то, чтобы совершать только низменное, грубое, грязное, прозаическое. Я веду себя так, как вел бы себя младший брат Респетильи, Что сталось с моей Лаурой, Беатриче, Джульеттой? И все-таки она лучше меня. Я подлец, обманщик и лгун. Какова бы ни была ее любовь ко мне, это все же любовь – пылкая, искренняя, благородная. В силу этой любви она одаривала меня своим вниманием, проявляла нежность, говорила лестные слова, в общем, отдала мне свое чувство бескорыстно, слепо доверившись мне. А я, который еще испытывает желания, в ком не угасло еще живое воспоминание о ее нежности и жажда новых наслаждений, осмеливаюсь презирать ее, предавая ее во имя никому не ведомой идеальной любви, которой у меня никогда не будет. Когда я заглядываю себе в душу, я вижу ее огромной и готов сравнить себя с самим богом. Но стоит мне взглянуть на мои поступки и истинные пружины моего чувства, и я ощущаю себя ничтожным, как самая жалкая тварь».
Наконец дон Фаустино в изнеможении опустился в кресло, стоявшее посередине комнаты, перед столиком, на котором горела одна-единственная свеча.
И снова печальные мысли завладели им.
Он еще глубже заглянул в свою душу и увидел, что он способен вершить великие дела. Но почему же до сих пор он поступал так, как поступает самый заурядный смертный? Какой пружины ему недоставало?
И тут доктор пришел к выводу, что ему недоставало счастья, что он был жертвой жестокой судьбы. Судьбу можно было одолеть только верой, но его вера была слаба и половинчата. Он верил только в себя и не верил в то, что находилось вне его, что могло бы его взбудоражить, подстрекнуть, подтолкнуть.
Мир не обещал ему побед, возвышенной любви, безмятежного благоденствия, триумфов, о которых он некогда мечтал и все еще мечтает. В мире до сих пор получалось так, что все его иллюзии превращались в разочарования; за каждую мимолетную радость приходилось платить унижением. Когда он спускался с заоблачных высей на землю, отказывался от мечтаний, надежд и даже от своих иллюзий, пытался принять мир таким, каков он есть, то оказывалось, что его прекрасный идол, то есть тот образец совершенства, который он создал из себя, в глубинах собственного сознания, недостоин его, обезображен и замаран.
Будучи сыном своего времени, он понимал, что цель и назначение человека состоят в том, чтобы обнаружить все свои лучшие свойства, чувства и возможности, способствуя тем самым общему историческому прогрессу, умножая своей деятельной анергией, благородством и щедростью величие и достоинство всего сущего, в котором и над которым должны проявляться и блистать дух, ум, божественный пламень, чьим вместилищем, храмом и горном были его голова и сердце.
Если ему это не под силу, то почему он не бежит из этого мира? Почему не скроется в пустыне? Нет, не в Мадрид он должен стремиться, а туда, где его никто не будет видеть.
Но не является ли анахронизмом бегство в пустыню из отвращения и ненависти к обществу? Ведь только в давние времена люди бежали из городов.
Что мог ответить на это доктор? Он видел, что отвращение и ненависть наполняют душу многих, и временами он чувствовал то же самое. Но одинокая душа не может достичь совершенства. Необходимо иметь предмет любви вне ее. Ты веришь в этот предмет любви, падаешь ниц перед ним, даже унижаешься, чтобы потом соединиться с ним. Душа очищается от греха и скверны и достигает наконец той ступени совершенства, к которой тщетно стремится одинокая душа. Ни душа доктора ни другие страждущие души не могут теперь уйти от общества. Возврата к временам Павлов, Антониев и Илларионов нет.[87]
Чему они могли поклоняться в своем отшельничестве, кроме самих себя, пораженные самомнением и манией величия?
Дону Фаустино казалось, что только смерть принесет успокоение его измученной душе. Но как только он вспоминал о смерти, – наперекор ей вставали все надежды, иллюзии, чаяния его прекрасной юности, и были они полны света и красоты, а до его слуха доносились звуки волшебной музыки.
Это было похоже на гимн воскресения, который, как казалось его тезке доктору Фаусту, пел хор ангелов, когда он собирался осушить кубок с ядом.
Кроме того, ужас перед небытием был сильнее страна вечных мук. Он хотел жить, но жить полной жизнью, благородной, плодотворной, деятельной, и оставить после себя яркий след. Он мучительно искал средства, чтобы удовлетворить это желание, не находил его, но вера в собственные силы и радостная надежда еще жили в его сердце.
Он чувствовал себя способным преодолеть все преграды, победить все трудности. Не хватало только мощного толчка, не хватало импульса, который раскрыл бы его возможности, не было такого предмета, который внушил бы ему веру, любовь и вдохнул энергию. Констансия оказалась бессердечной кокеткой; Росита хороша собой, умна, темпераментна, но она не могла спорить с высоким идеалом, сложившимся в его мозгу; Вечная Подруга по-прежнему не появлялась.
Почему она не исполняет своего обещания и не спешит ему на помощь? Кем бы она ни была по происхождению, доктор понимал, что у них были родственные души, – высшая похвала, на которую был способен этот гордый ум.
Тысячи странных мыслей и планов проносились в голове доктора, тысячи желаний возникали в его душе. Если бы он мог пойти на сделку с дьяволом, он все отдал бы ему в обмен на страстную любовь, дабы обрести путеводную звезду, которая служила бы ему ориентиром в бурном житейском море, центром притяжения, управляющим его движением и определяющим орбиту этого движения.
Доктор был гордецом и отрицал сверхъестественное только на том основании, казавшемся ему неоспоримым, что в его собственную жизнь никогда не вмешивалась никакая сверхъестественная сила, Бели бы она существовала, то кто другой с большим основанием мог удостоиться чести общения с ней, мог рассчитывать на ее помощь и содействие, чем Дон Фаустино Лопес де Мендоса? Но поскольку она не подчиняется его воле, не откликается на его призывы, значит никаких высших сил не существует в природе.
Экзальтация, только что владевшая доном Фаустино, покинула его и сменилась меланхолией. Он чувствовал себя самым несчастным человеком на земле. Ему почудилось даже, что и перуанка и другие предки смотрят на него с состраданием. Слезы отчаяния полились из глаз и потекли по щекам.
Хотя слезы не очень украшают мужчину, однако скорбь, которая их выжимала, была столь высокой (хотя и несколько неоправданной), что придавала лицу доктора удивительное выражение и делала его в те мгновения прекрасным.
Было три часа пополуночи. Полумрак, глубокая тишина, царившая вокруг, близость кладбища, портреты предков, скудно освещаемые одной-единственной свечой, воспоминание о последнем появлении таинственной женщины – все это располагало к любви и порождало желание снова увидеть незнакомку.