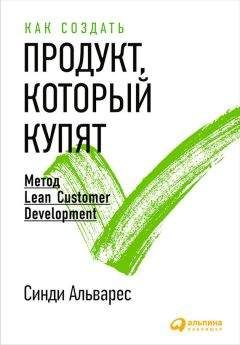Изуверившись во всем, доктор начал немного верить в оккультные науки.
Однако знаний не хватало, нужно было почитать кое-какие книги по магии и мистике, иначе он, не зная азов этих наук, будет блуждать в потемках. Из-за одного этого стоило поехать в Мадрид. Вдали от этого центра интеллектуальной жизни Испании, где худо-бедно, но она все-таки есть, труды доктора в области магии, мистики, равно как в области философии и поэзии, обречены на неудачу, не говоря уже о других науках, искусствах и занятиях более низкого свойства – вроде политики.
Через полгода после смерти матери, подстегиваемый честолюбием, снедаемый жаждой все познать, томимый смутными мечтами и туманными надеждами стать государственным деятелем, поэтом, оратором, философом, мыслителем, даже магом и мистиком, доктор поспешил привести в порядок все свои дела в Вильябермехе; принял отставку Реcпеты; назначил управляющим Респетилью, наскреб около двенадцати тысяч реалов. С этими деньгами, нежно простившись с отцом Пиньоном, с Респетой, с Респетильей, с кормилицей Висентой и любимым псом Фаоном, доктор отбыл в столицу и поселился там в гостинице, где за один дуро в сутки имел комнату, постель, свет, завтрак, обед и ужин,
Все поэтическое – с оттенком комического или трагического, – что было в натуре доктора и в той атмосфере, которая его окружала, развеялось, едва он покинул Вильябермеху. Там остались оба его мундира, шапочка и мантия, щегольские наряды, лошадь, пес Фаон и верный оруженосец Респетилья. Там он вынужден был оставить родной дом, замок и должность его коменданта, могилы своих предков. Из важного барина, хотя и полунищего, полуотшельника и полумага, любимца женщин, предмета возвышенной любви и яростной ненависти, из романтической фигуры а-ля Вальтер Скотт или вроде байроновского Манфреда он превратился в заурядного ловца удачи, неудачника, которые толпами стекаются в Мадрид в погоне за счастьем.
Чудесные мечты безумца, намерение стать теософом, магом и мистиком тотчас улетучились, ибо ум был занят теперь другими мыслями, весьма вульгарного свойства. Фантастические видения и привидения вроде перуанской принцессы или Марии не удостаивали своим посещением третьеразрядную гостиницу.
Долгие годы в нем жили иллюзии, и вот теперь они развеивались одна за другой, разбивались о камни на пути к желанному успеху.
Доктор попробовал свои силы в лирической поэзии и даже опубликовал несколько стихотворений в литературных журналах, но публика была уже по горло сыта вздохами, ламентациями, тоской, меланхолией и не приняла его творений.
Несколько раз он принимался за сочинение драмы в стихах, но запала хватило на два-три акта. Рядом с вдохновением или с тем, что считают за таковое, в нем жил беспощадный критик. Критик постоянно убеждал его, что все, что он пишет, глупости и чепуха. Тогда доктор забрасывал драму. Пьеса оставалась незаконченной.
Голод не прижимал его настолько, чтобы заставить продолжать работу и опробовать ее на публике, которая могла оказаться более снисходительной, менее строгой, чем он сам, могла принять то, что он отвергал, могла высоко оценить то, что ему казалось глупостью.
Иногда вдруг он ощущал в себе силу эпического поэта, чувствовал способность суммировать, сфокусировать в. колоссальной эпопее всю современную цивилизацию, озаряя ее светлой перспективой будущего. Несколько раз он садился за эту эпопею, но далее сотни стихов дело не шло: в гостинице снова воцарялся злой критик и учинял расправу над музами.
Попытка заделаться оратором тоже не удалась: выступая в «Атенео»,[99] он чувствовал себя косноязычным и ничего не умел сказать толком.
На время он устроился в редакцию одной из столичных газет, но, не испытывая ни интереса, ни вкуса к чужой политической деятельности, вынужден был ввиду угрозы увольнения оставить это занятие.
Глупая вера в бесконечный прогресс, процветание и совершенствование человеческого рода заносила его в заоблачные выси, и он не замечал того, что разделяет людей на грешной земле. Ему было безразлично, что там творилось: монархия или республика, одна конституция, другая конституция, один избирательный закон, другой избирательный закон. Даже обожаемая им свобода, которую он рассматривал как средство, а не цель, не стала для него идолом, которому хотя бы иногда надо поклоняться и приносить жертвы. Доктору были непонятны тот запал, та страсть и жар, с которыми люди вели между собой борьбу. Он видел во всем этом только столкновение личных мнений. Настоящим мотивом борьбы было упрочение своего собственного положения в обществе.
Несмотря на всю свою просвещенность, в этом пункте доктор являл собой пример типичного обывателя из Вильябермехи, типичного провинциала из любой части Испании, кроме нескольких провинций, где еще умеют желать, знают, чего желать, и потому третируют все остальные провинции, утерявшие это чувство.
Доктор видел, что каждая партия, боровшаяся за власть на страницах газет или с трибуны, состояла из завсегдатаев того или иного салона. Она не вела за собой народные массы, а протаскивала тех, кто жаждал тепленького местечка. Она не представляла никакого значительного коллектива, не была защитницей и проводником высоких идей, интересов и чаяний больших общественных классов. Вождь такой партии сам придумывал символ веры, который был выгоден ему самому, по своей прихоти сколачивал партию, главарем которой сам же и становился. Доктор был убежден, что эти своекорыстные кредо служили только целям захвата личной власти; испанский народ не различал оттенков, он воспринимал только яркие контрастные краски, быстро уставал от дискуссий, не улавливал тонкостей в различиях; ему нравился, как сказал один остроумец, либо Варавва, либо Иисус, но даже домогаясь чего-нибудь от столь несходных личностей, он не просил, как обычно просят, не шел к избирательным урнам, чтобы обеспечить победу своему кумиру, а сидел сложа руки или хватался за пращу.
Все это отвращало доктора от политики и ставило в положение героя одной из повестей Вольтера.[100] Герой этот приехал в Персию в разгар гражданской войны и на вопрос о том, какого барана он предпочитает, белого или черного, ответил, что цвет шерсти роли не играет, лишь бы баран был хорошо зажарен, и прибавил, что в спорах о белом и черном баране можно вообще потерять всех баранов и что если стоит выбор между Иисусом и Вараввой и большинство склонно выбрать головореза Варавву, то делать это нужно быстро и согласно, а не резать друг другу головы до полного самоуничтожения.
Если бы доктор умел скрывать свои думы и чувства, которых мы, кстати, не разделяем, они не принесли бы ему вреда, но проклятая откровенность побуждала его обнародовать их. Именно поэтому он не сумел добиться даже депутатского места. К тому же он вообще был скептически настроен по отношению к политике.
Другая, самая трудновытравимая иллюзия доктора состояла в том, что он мнил себя великим философом. Он не мог принять ни одну из философских систем, родившихся за границей и последовательно исповедовавшихся в нашей стране. Он не стал ни традиционалистом, ни приверженцем Фомы Аквинского.[101] Он не взял в соратники ни Кузена,[102] ни Канта, ни Гегеля, ни Краузе.[103] Доктор помышлял прославиться созданием собственной философской системы. Но годы шли, а он ничего не придумывал. Он утешал себя мыслью, высказанной в свое время, кажется, Аристотелем, что расцвет творческих сил и разума наступает тогда, когда человеку исполняется пятьдесят лет. И он стал ждать своего срока, чтобы затмить и Краузе, и Канта, и Гегеля.
Прошло еще какое-то время, и доктор, хотя он и сохранял в душе озарявшее ее сладостное воспоминание о Марии, попытался блистать в аристократических салонах столицы и завоевать любовь знатных дам. Это была самая пустая из всех иллюзий. Вся сложность и трудность этого предприятия заключалась, как он слышал, в том, чтобы его полюбила именно знатная дама. С другими было проще: они сразу оценили бы его и слетелись как мухи на мед. К несчастью, доктору не удалось найти даму, с чьей помощью он мог бы, как говорится, сделать первый шаг. В этих делах нельзя было применить хитрость и начать сразу со второго, как в давние времена поступил один импрессарио: заметив, что публика плохо посещает первое представление боя быков и более охотно – второе, он начал со второго и собрал немало зрителей. Что и говорить, человеку без прочного положения, без славы, без денег, без серии любовных побед, человеку безвестному, незадачливому, бедному как церковная мышь, постояльцу третьеразрядной гостиницы трудно рассчитывать на успех у прекрасного пола. Не часто попадаются женщины вроде сказочной китайской принцессы или красавицы Анжелики,[104] которые влюбляются в юношу без имени, не очень красивого, да еще и меланхолика. В этом отношении жизнь доктора в Мадриде напоминала судьбу Леонардо из «Лузиад» Камоэнса: юноша был так невезуч влюбви, что даже на острове Венеры, где все было к услугам и удовольствиям героев-португальцев, не мог добиться благосклонности ни одной местной нимфы – все бежали от него как от чумы.