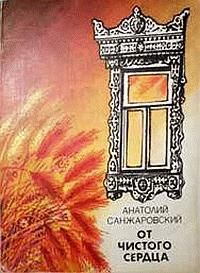не угодил завтрашний день?
Вечером доила я корову.
Ветром вбежал в катух Валера.
— Вставай, Марьяна! Вставай! — тянет за плечо кверху.
— Кончу доить… Тут не заночую.
— Да вставай же! Пошли!
— Куда ещё пошли?
— Куда, куда… Говорят, пошли, значит, пошли…
Чем лучше я вслушивалась в его голос, тем все ядрёней слышала смятение, тревогу, смертную слышала беду.
Поднялась духом, заглянула в лицо. Какое-то чужое да синее, что ли, будто на льду Валера посидел мой.
Не стала ничего спрашивать. Пошли.
Он впереди, я следком.
Идём молчим. У самой душа не на месте.
А вечер уже старый, солнце давно ушло; за дальней далью, где поля в сумерках обнимались с небом, добирал свои последние минуты слабкий костерок мерклого заката.
Идём мы, идём и куда ж приходим?
К загсу.
Смотрю на замок. Смотрю на Валеру.
— Ты чего? Иль боялся, завтра без обеда останешься и усохнешь? Ну какие загсы по ночам?
— А такие, — молвит натихо. — Ты пошла к корове, тут тебе нарочный…
Полез в потайной карман пиджака.
Достал какие-то серые листочки.
— Что это?
Спрашиваю, а сама боюсь ответа.
— Военные повестки это, Марьянушка… Эта, — загинает верхний листок, — на меня… Эта, — загинает ещё листок, — на Михайлу… Э-эта на Егора… Велено быть взавтре поутру к семи ноль-ноль…
На всяку беду страха не напасёшься.
Беда всю страну подвела под красную звезду.
Дома остались бабы, давненькие, другим словом, старые да малые. Остались кормить войну.
А у войны рот большой…
Без мужского роду-племени сиротами смотрят поля наши, ржа взяла волю над машинами без глазу.
Как ни круто завернула вековая беда, а первый военный взяли мы урожай сполна. Зерно до ядрышка ссыпали в закрома, до корешка свезли сахар-свёклу на завод.
С молодыми ноябрьскими снегами заработали у нас в Острянке эмтээсовские курсы.
Учиться тракторному делу загорелись все мои. И Зинушка, и Тамарушка, и Манюшка, и Нинушка, и Колюшок… Последненький мой, мамушкин цветочек.
Мне наказали вести те курсы.
С испугу кинулась я было отнекиваться, да в стыд потом самой стало: помимо меня никто из оставшихся острянцев и не знал толком трактора.
Ну что ж. Я так я…
К теории готовилась я по книжкам куда усердней против своих старательных курсантов. Так зато по части практики я была профессориха.
Как сбежимся у кузни, такой галдёж подымается. Кажется, все разом горланят:
— Мне!.. Мне разрешите! Разрешите поездить с вами мне-е!..
Все просятся, да не все…
Вижу, первонькая из дочек, Зина, не то чтоб рвалась поездить. По-за спинами приседает-прячется. А ну, не дай Бог, вырву из толпы на трактор.
— Зин! — шумлю с трактора. — А ты когда да ни будь думаешь сюда подыматься?
Зина вовсю и заробей.
— Я-то, — говорит, — а сама глаза в спечённый, в притоптанный уже снег, — я-то что… Я лучше люблю ездить. На то и шла…
— Ты чего жмешься?
— А нехай все отвернутся… Сяду…
— Эт что ещё за фантазия на тебя набежала? — пытаю в строгости.
Молчит. Набрякла вся слезой. Как вата в воде.
«Тут какая чертовщинка да есть!»
Прыг я только наземь — с криком упала Зинушка мне на грудь. Заревела белугой.
— Зи-ин! Да ну что ты?
— А то… Ну скажите ему…
— Кому?
— Ко… лю… ш… ку…
— А что он?
— А то… Как же я полезу садиться на обзор всем?
— Да что ж такое?
Отшатнула от себя, смотрю, что ни слеза у неё как сорвётся, так и воткнётся колом в снег.
— А то… пристаёт, как слюна… Повсяк день дражнится… что у меня… ножки… как… у беременной ко… кошки…
Мороз так и стриганул по мне.
Присмирнела вся моя курсантская рать. Даже дыхание слышу своё.
Все ждут, куда ж оно все и поклонится.
А куда клонить?.. Другой бы кто, а то младшенький… Домашний гостюшка, запазушник мой… Вот уж воистину, детки — железа́ на душе.
— Зинушка, — глажу её по голове и через большую силу шлю себе на лицо улыбку, самой впору голоси, — ну ты, ёлки-коляски, тожа, ей-пра… Да в свои в шестнадцать ты любому раскрасавцу — праздник! А ты веру кому дала? Колюшку!.. На двенадцатый всего-то полез годок… Да что этот плужок понимает!
Я поискала глазами в толпе Колюшка.
Стоит, басурманская кровь, руки в боки, глаза в космос.
Вроде не об нём и песня.
— Ну что, бездипломной ты мокроносый спец по ножкам, что ж даль думаешь? Думаешь, раз на весь девчачий отрядко ты один кочетиного семени, так те всё и дозволено?
— Ма…
— Не мамкай! Ишь! У него ума полна сума да ещё назади торба! Я сразу тебя не брала… Нечего тебе на курсах путаться!
Выговариваю, а самой жалко на него глядеть.
Того и выжидай, слезьми брызнет.
— Ну, ма-а… Я боль не буду…
— Не буду, не буду… — упала я в его колею. Остановилась. Перевела дух. Мягче уже так повела: — Иль ты совсем выбежал из ума? Пойми… По малым по годам твоим никто тебе трактор не даст. На что ж тогда курсам вольной слушатель? Молчишь… Скажи тепере, ходим мы с тобой в пятые классы?
— Ну…
— Лучше учи уроки. Не лети сюда посля школы. К те вон вчера за компанию с четвёрками да пятёрками прошмыгнула в дневник и тройка. Вина на курсах?
— Неа! То по немецкому. Немецкий я и не подумаю учить! Немой на нас напал! А я учи его язык? Фигушки ему!
— Учить не учить… Не твоего умка забота!
— Вот-вот! Я тож так считаю… Не учу и вообще брошу на немецкий ходить!
— Ты мне дурьи песни не пой. Раз велят — учи. Всё хорошо учи. Я, — смеюсь, — строго не взыщу, наладься таскать одни пятёрки. Таскай на здоровье. Только внапрасну не рвись надвое. На школу да на курсы. Твои, Колюшок, курсы попереди.
Впотьмах и гнилушка светит.
Занималось у меня двенадцать девчаточек.
Все хорошо отучились. Весной выехали пахать.
Теперь я им бригадирша.
Поначалу Зине не находилось прицепщика. Колюшок заходился было пойти.
Зина вовсе не против, раз он больше не лип с критикой про ножки. Но по малости его лет дала я полный отвод. Пристегнула к водовозке.
Дело это не могильное для подлетка.
Зато край как всем нужное.
Начерпает из колодца воды в бочку, хлоп караковую и за милую душу пошёл-поехал от загонки к загонке.
Приедет, бывало, и дивуется, а чего это девчаточки мои всем базаром