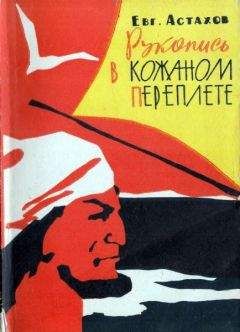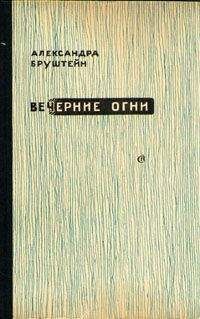Когда стемнело, служанка ушла по обыкновению спать, а повар, тоже по обыкновению, ушел в город. Отсыпался он по утрам, а ночь проводил, очевидно, шатаясь по хорловым теремам и другим неприятным честной женщине заведениям.
Время тащилось, застывало, делало частые перерывы, и они становились все длиннее. Любава решила про себя, что ждет только до полуночи, а в полночь пойдет спать, и пусть Рагнвальд лопнет, и пусть несет свои писульки еще кому-нибудь, и пошел бы он в хвиту! А если он еще раз заявится, то она пригрозит, что расскажет Детину о его, Рагнвальда, несуразных преступных планах, а тот донесет до сведения Ярослава, кто и зачем собирается похитить у него жену. Свинья. Женокрад.
На какое-то время она впала в апатию и, сидя верхом на ховлебенке, думала, что ей все равно, пусть крадет кого хочет, она не будет его отговаривать, и пусть он провалится. Выйдя из апатии, она ужаснулась своим мыслям. Как же так! Ведь пропадет человек ни за что. Ведь он не чужой ей. Как можно! Пройдя в спальню, она хотела было помолиться, вспомнив, что именно так и нужно было поступить с самого начала, но ее отвлекли крики на улице. Окрики. Приказания. Подойдя к окну, Любава осторожно отворила ставню и выглянула.
Двое ратников с факелами склонились над телом. К ним приблизился третий. Предчувствуя неладное, не желая ни о чем думать, Любава заспешила вниз, отодвинула засовы, и выскочила на улицу.
Рагнвальда успели перевернуть на спину и теперь внимательно осматривали и обыскивали.
– Эй! – крикнула Любава.
– Тише, – сказал один ратник. – Не кричи. Тут у тебя под окном человека убили, а ты кричишь. Что теперь кричать. Кричать раньше надо было.
Где-то распахнулась ставня, и где-то еще скрипнула дверь. Люди стали выходить из домов.
– А, хорла, народ подтягивается, – сказал ратник. – Что делать будем?
– Надо доложить тысяцнику, – сказал второй.
– Надо ли?
– Да ведь дело-то какое. Строго-настрого сказано было новгородцам не задирать варангов. А варангам – быть учтивыми. И вот, пожалуйста. А нам выйдет нагоняй. Не уследили.
– Как это произошло? – спросила Любава срывающимся голосом. Она присела на корточки рядом с телом.
Лицо Рагнвальда исказилось в предсмертной вспышке гнева, глаза широко распахнуты, стеклянны, губы приоткрылись, рыжеватая борода в уличной грязи – упал он, судя по всему, на живот и на лицо.
– Да кто ж его знает, – начал было ратник, но второй ткнул его локтем.
– Не знаем мы, – отрезал он. – Были в дозоре. Смотрим – лежит.
– Где его сума? – спросила Любава.
– Не было с ним сумы.
Она резко подняла голову и посмотрела ратнику в глаза.
– Не было сумы, говорю тебе! Ведь правда, ребята?
– Закройте ему глаза, – сказала Любава, вставая и дрожа всем телом. – Изверги. Дрянь. Глаза ему закройте!
– Кто это его так? – с интересом спросил житель соседнего дома.
– Не было бы беды, – высказала мысль соседка. – Шведы подлые теперь окрысятся. Давеча подрался один с Кулачного Конца, со шведом, отходил его, за то, что он к его жене приставал, так с него аспиды посадниковы виру взяли. Слыхали? Жуть.
– А им, аспидам, только бы виру взять, – сказал еще один сосед. – Слышали небось, князь из Киева вызвал ковша, казной заведовать.
– Слышали, как не слыхать.
– Пока всех нас по миру не пустит – не успокоится, ковш этот, клещ омерзительный.
– Неужто действительно ковш?
– Да.
– Ох-хо-хойушки! Не, ну ты только подумай – везде эти ковши успеют.
– Падлючий народ, надо сказать. Надо бы ихний Киев спалить весь к свиньям. Чтобы до основания. Чтобы головешки одни остались.
– Да, как же. Мы его спалим – не отрицаю, это мы сможем, хоть завтра – а что будет потом, знаешь?
– Что же?
– А они всем городом к нам приедут.
– А мы их не пустим.
– А они хитростью. Намедни у бабки Крохи остановился один, мол, сиротинушка я, пусти меня, бабка, к себе. Она пустила. И все.
– Что – все?
– Оказался ковш.
– Ах он пес волосоногий!
– И то сказать! Объедал бабку Кроху, да так, что плюнула она в пол, да и уехала к своим во Псков. Так ведь на следующий же день к этому ковшу вся его родня аспидная прикатила! Человек двадцать!
– О! Это что, это ничего, в этом сути нет никакой! А вот у знакомого моего рыбака останавливался один…
– Ковш?
– То-то что нет. Хороший человек. – Рассказчик понизил голос. – С двумя женами. – Кругом заулыбались. – Так вот, рыбак говорил ему – не езди ты, парень, в Киев. А он в Киев собирался. А рыбак ему – не езди. А тот не послушал, поехал. Ну, молодому какой указ. Знаете. И вот что дальше было, а, люди добрые? А ушли от него жены его. Обе. К ковшу ушли! Охмурил их ковш. Обеих!
– Да ты не врешь ли? Где видано, помилуй…
– Зачем мне врать? Какая мне корысть, посуди сам.
– Вот твари подлые!
Тем временем прибыл поднятый с постели тысяцник.
– Чего собрались? – спросил он неприязненно, подходя к трупу.
– Да вот, мил человек, полюбуйся, – возмущенно сказал один из соседей. – Мы здесь все, за исключением, как есть честные купцы да ремесленники из всем известных. Платим мы твоим горлохватам дополнительную мзду, чтобы жилось нам на нашей улице в степени привольности, чтобы двери запирать надобности не было насущной. А они – вон чего. Не усмотрели!
– Оно конечно, – вмешался еще один сосед, солидный толстый купец. – Понятно, варанг – так ну его. Пусть. Не жалко. Но чтобы не на этой нашей улице! Пусть бы его на другой улице ухайдакали! Где за ночной покой не платят.
– Тише, – сказал тысяцник, оглядываясь встревожено. Впрочем, подумал он, не такой дурак этот толстяк. Все четверо ратников – славяне. При варангах он бы не стал так … смело … про них.
– Чей это дом? – спросил он.
И сразу дюжина перстов указала на Любаву.
– Вот она, хозяюшка, – для пущей доходчивости ехидно сказал кто-то.
– А наверное к ней и шел, – обвиняюще выразила чья-то жена.
– Нет, не может быть, – ответили ей. – К ней Детин ходит.
– Сам?…
Наступило молчание. Хотевшие было что-то сказать, язвительное, при упоминании Детина прикусили вдруг языки.
– Знаешь его? – спросил Любаву тысяцник.
– Да, – сказала она.
– Звали его как, знаешь?
Она помедлила.
– Рагнвальд, – ответила тихо но отчетливо.
– К тебе шел?
– Нет.
– Нет?
– Не знаю. Может и ко мне. Я спала. В дверь не стучали.
Тысяцник присел на корточки и сдвинул тесемки рубахи Рагнвальда вниз, приоткрывая грудь. Увидев нательный крест, он кивнул с таким видом, будто худшие его предчувствия оправдались.
– Стало быть, гробовщик и дьякон, – сказал он. – Нужны. Ну, орлы, давайте повозку, волочите его в церкву.
– В которую? – спросил один из ратников.
– Вон в ту, – тысяцник неприязненно показал рукой. – А вы, люди добрые, идите-ка спать, а то мало ли что. – Заметив на лицах сомнение, он добавил: – Пока варанги не узнали.
Это подействовало. Народ быстро разошелся по домам. Один из ратников побежал за повозкой.
– Эй, – Любава коснулась плеча одного из оставшихся ратников. Тот обернулся. – Зайди со мною в дом.
– Зачем?
– Нужно. Получишь пять сапов.
Ратник посмотрел на тысяцника, но тот расспрашивал двоих соседей, показавшихся ему наиболее сметливыми, которым он велел остаться.
Пройдя в спальню, Любава открыла сундук, вытащила кошель, отсчитала десять сапов, и вышла в гридницу, сжав деньги в кулаке.
– Пойдем со мною, – сказала она ратнику.
– Это куда же?
– Не очень далеко. Проводишь меня, получишь награду.
– Будет мне за это наказание.
– Не будет. Тысяцнику сейчас не до тебя.
И они пошли – квартал за кварталом, улицу за улицей, проулок за проулком. Светила луна, но в некоторых проулках дома стояли густо, палисадники были совсем маленькие, и темень стояла непроглядная. Ратник вытащил на всякий случай сверд.
Два раза Любава ошиблась направлением, но все-таки вышла к дому Детина в Троицком Конце.
– Теперь так, – сказала она ратнику. – Я стою вот здесь, в тени. Ты стучишь в дверь. Откроет тебе холоп. Ты скажешь, что тебе нужно срочно видеть хозяина дома, по поручению детинца. Скажешь, что поручение срочное, пусть разбудит хозяина. А когда выйдет хозяин, покажешь рукой на меня и пойдешь себе. Вот тебе пять сапов, и вот, видишь, еще пять, если все сделаешь, как я прошу. За ними придешь ко мне завтра. Понял?
– А если он … холоп … откажется будить?
– Дашь ему одну сапу. Вот тебе еще сапа. И попросишь у него метлу.
– Зачем?
– Он даст тебе метлу, а ты ему этой метлой по роже. И тогда он пойдет будить хозяина.
– А если все равно не пойдет?
– Ты дашь метлу мне.
– И ты его метлой по роже?
– Нет. Тебя.
– Такого уговору нету.
– А ежели нету, так я обо всем расскажу Детину завтра. И тебя посадят в темницу на три месяца. И будут каждый день ругать, плохо кормить, и больно пороть.
– Ладно, не серчай.