– Все, все… спать… спать, давай уже, – и, выталкивая Ивана вон из кухни, обернулся к Мари со словами, – Je vais arranger avec lui, attends, d’accord?[23]
Та, очень какая-то довольная, кивнула в ответ.
– Можно в спальне, Коля? Можно в твоей постели? – спросил Иван.
– Где хочешь, хоть на толчке, только иди, давай уже, не застревай.
В спальне Иван, не раздеваясь, заполз на разобранный диван.
– М-м-м-м-м, хорошо как… чистенько, тепленько… пахнет так, м-м-м-м-м… так вкусно, – простонал он, когда голова его коснулась подушек. – Коля… иди сюда, Коля…
Николай же стянул с него сырые, заляпанные грязью кроссовки, затем джинсы, тут же вынес их в коридор и через несколько минут вернулся с бутылкой минеральной воды. Поставил ее на прикроватную тумбочку и аккуратно принялся высвобождать Ивана из запятнанной кровью кенгурухи[24].
– Я люблю тебя… – глядя из-под полуприкрытых век на друга, снова и снова признавался Иван.
– Угу…
– А ты… ты любишь меня?.. Ведь ты тоже уже любишь меня, правда?
– Я щас точно… щас прибью, приколочу тебя, Ваня, – тихо, нервно засмеялся Николай и скинул кровавую кенгуруху на пол.
– Скажи… ну, скажи, что любишь, – почти уже во сне настаивал Иван.
– …
– Ну, скажи…
– Уймись уже, а, – стаскивая с Ивана футболку, слабо, скорее по инерции, отбивался Николай.
– Ты тоже… свою сними тоже…
– Какой же ты… какой же ты все-таки… – усмехнулся Николай и снял.
– Лисеночек? Волчоночек? – с иронией, сонно не сдавался Иван.
– Да, Ваня, да! Какая же ты все-таки сука! Грязная, ебаная сука! – внезапно грубо, зло, с презрением прорычал Николай и нежно поцеловал Ивана в волосы. – Похотливая, Ваня, грязная блядь! – и нежно поцеловал Ивана в четкий, выразительный такой – от засоса, от укуса – след на шее, а после, еще более бережно – в больное ухо. – Поросенок, дрянь, – и нежно в разбитый нос…
– Коля… – прошептал Иван в совершеннейшем блаженстве – во сне, в тепле, чистоте и близости… – Коля…
– Сокровище мое… мое распутное, мое безумное… прекрасное, смелое, нежное… сладкое мое чудовище, – немного дрожащим, хриплым голосом продолжал Николай и целовал Ивана нежно в губы и тут же жадно, жарко, глубоко в рот…
В какое-то мгновение из-под полуприкрытых век Иван заметил стоящую в дверях, все так же с чашкой в руках, Мари, которая безотрывно и завороженно и даже, казалось, восхищенно наблюдала за тем, как Николай страстно, с упоением целует – нет! – вожделенно, зкстазно, изумительно, роскошно высасывает, выдаивает, вбирает своего пропавшего, своего naughty, dirty, rotten boy…
конец третьей части4. (хулиганская, медицинская, драматическая, кинематографическая)
Это обрыв… это край, рубеж…
Сейчас завоешь и увидишь рай,
Но убеждение, что не сможешь – не даст упасть…
Потому что в рай падают,
Как в звериную пасть —
Он тебя заглатывает
В темную свою плоть,
Где сладостно тепло, темно…
И в плоть, до утробного места
Ты летишь вниз, скользя,
По лабиринтам рая,
Со знаками нельзя…
Нельзя! Туда нельзя никогда!
Потому что, узнав однажды,
Ты навсегда, как зараженный лепрой,
Сосланный на остров жить —
Вспоминать будешь рай,
Теребя нить…
Бинта окровавленного,
Вокруг горячего лба,
Свисающего на скулу,
Закрывающего глаза…
Это беда, ее надо выть, выть тихо
И плакать медленно,
Пытаясь хотя бы звуком
Приблизить растленное воспоминание
О чувстве рубежа, о крае, об обрыве,
О войне с самим собой,
О рае…
Н. Медведева, «Это обрыв…»
Через час нервических раздумий, робко поглядывая на все еще погруженную в бумажную работу Аню, Иван принимал нелегкое решение: обосраться перед молодой симпатичной женщиной или исполнить жестокий приказ и стать паинькой… и… и в некоторой степени даже жертвой – эта роль сейчас была особенно ему приятна.
– Аня… Слушай, Анют… – хрипло начал Иван, – сделай мне клизму, пожалуйста.
– Тебе не назначали, – продолжая выписывать назначения в блокноты, ответила медсестра.
– Я знаю… мне… просто я…
– Давай, слабительного, хорошо? – Аня подняла на Ивана усталые глаза.
– Нет… не поможет… Ну, пожалуйста, Анечка, – не улыбнулся Иван, ибо сил и смелости у него на это не было.
– Господи, Ваня, а раньше, конечно, не мог сообразить? – раздраженно продолжала Аня. – Одиннадцать уже, у меня еще вагон работы. Лара не вышла сегодня.
– Ну, пожалуйста, прошу тебя, – Иван совершенно, ну просто абсолютно не знал, не представлял, что предложить медсестре взамен, чем подкупить ее.
– Хорошо. Иди в палату. Я позову, – вновь склонилась над своими «талмудами» Аня.
– И утром еще, о’k?
– Утром-то зачем? – возмущенно вскинула голову медсестра.
– Пожалуйста, Аня… – с мольбой посмотрел на нее Иван.
– …
– Аня… ну Анечка… ну, прошу тебя, ну, пожалуйста, – вцепился он мертвой хваткой.
– Ну, ты танк, Ваня! Кого хочешь, одолеешь, – расстроено и устало отвечала Аня.
* * *
Уже прощаясь, стоя в дверях палаты, вновь набравшись храбрости, Иван несильно сжал пальцами плечо Николая и приблизил свое к его лицу с намерением поцеловать друга. Тот сразу же отпрянул.
– Та-а-ак, – протянул Николай. – Ожил… очнулся. И все по-старому, я вижу. Не уймешься никак, да? – строго спросил он. – А я-то надеялся – придешь в себя, наконец, – и недовольно качнув головой, несколько даже зло продолжал:
– Крепко-то как в тебе эта дурь засела.
Иван опустил глаза.
– Я, правда, люблю тебя, Коля, я…
– Ну да… понимаю, – задумался Николай, – Знаешь, ладно, черт с тобой, давай – завтра трахну тебя еще раз… так и быть. Иван поднял голову, а Николай, в свою очередь, притянул его к себе за шею и тихо, на ухо сказал:
– Сегодня наша любимая медсестра дежурит, думаю, она тебе не откажет. Поздно, конечно уже, ну ничего – ты справишься, убедишь. Ты ей улыбнись, как ты умеешь, красиво – попроси, чтобы клизму тебе поставила.
Похолодев внутри, Иван хотел было освободиться и даже возмутиться, но Николай не отпустил его и продолжал:
– И утром тоже… и не жрать… и к мини-бару моему не прикасаться, понял меня? – хищно улыбаясь, он отстранился от Ивана и выскользнул из дверей.
Иван вышел за Николаем в коридор и остановился, наблюдая, как тот, облокотившись на возвышающуюся над столом и огораживающую сестринский пост поверхность, и просто-таки растекшись по ней, и почти перегнувшись чрез нее даже, что-то весело рассказывал Ане, которая отвлеклась от груды «историй»[25] и смотрела на него восхищенно, внимая его байкам, не скрывая удовольствия, расплывалась в улыбке.
«Знал бы ты, что туда ставят иногда – никогда бы не дотронулся, пиджак бы свой выкинул сразу», – с некоторым злорадством подумал Иван, но в тот же миг, заметив на лице Николая такой же довольный, такой же обольстительный и обольщающий «оскал», какой не сходил теперь с лица их любимой, маленькой, складненькой сестры милосердия, злился уже по-другому – уже немного на нее, уже немного на себя и уже совсем даже очень на себя, и переживал, страдал, болел, боялся и стыдился вновь…
* * *
Весь следующий день Иван не знал, чем занять себя до прихода Николая. Он пробовал читать, но книга быстро полетела в угол палаты, он пробовал смотреть соревнования по конкуру, но так и не смог проникнуться, посему, сменив спортивное состязание, с экрана к Ивану со своим нетленным, из раннего, хулиганским творчеством обратился его любимый австралийский режиссер. Однако и этот – мастер китча и трэша[26] – гений не смог, против обыкновения, захватить внимание Ивана. В какой-то момент Иван ужасно захотел есть, но тут же перехотел, закурив новую сигарету. Сигарет Иван выкурил бессчетное количество – и целиком, и не совсем – как привык, как любил делать часто.
Так, изнывая и не находя себе места, он даже собрался было кому-нибудь уже позвонить, но, вспомнив, что скрывается, что объявил всем бойкот, и представив, что сейчас мучительно долго и в подробностях придется объяснять какому-нибудь Максу или Оле, где он и что с ним случилось, куда это он пропал на целые две недели, а если даже и не придется – ведь Коля наверняка придумал какую-нибудь спасительную легенду, какую-нибудь правильную, приятную, понятную для всех ложь – станет совершенно необходимым принимать их здесь, у себя в палате, с цветами, шутками, смехом, слезами и другими его многими приятелями и знакомыми… и вновь общаться, улыбаться, радоваться, планировать что-то пустое и глупое и развлекаться – снова и снова отвлекаться и отрываться, отрываться от долгожданной такой нынешней действительности: сказочно уютной больничной койки, и его теплого присутствия, и строгого, но нежного его голоса, и строгого, но ласкового его взгляда, – предавая новорожденное «родство», теряя связь, теряя сладостное чувство близости с ним – таким теперь близким, лучшим его другом.
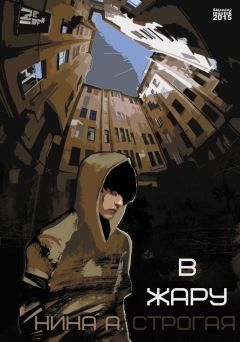

![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)

