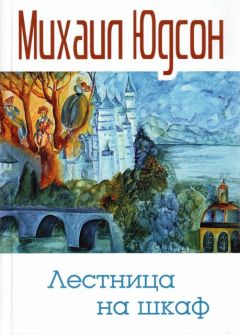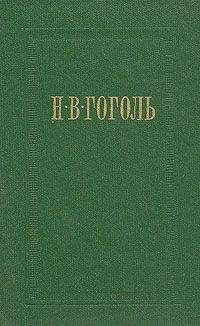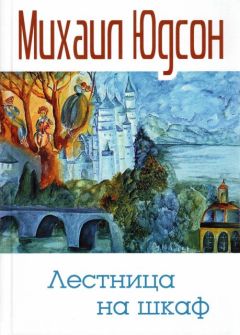— Да вроде я бригадир…
А я тоже как-то еду ночью — гляжу, лежит человек прямо поперек дороги. Я, значит, торможу философию, слезаю, подхожу, щупаю — дышит, сивкой прет, храпит. Я трясу, говорю, мужик, ты что, воистину на дороге, кой асмодей тя вывел, смотри — задавят. Он встает, головой сильно кивает, или это так трясет его, и деловито так с дороги прыг в канаву на обочине — хоп, и на бок, благо сухо. И дальше храпит. Проспится, про Спасителя вспомнит:
— Явление! Мол, ебен во славу!
Так я же говорю — тяжко было. Околеванца ждали. Но народ наш не унывал — душился в очередях лизать зад до тазовой кости, ломился в закуты здравить в бронзе, воспевать в рифму: «И ангел с молотом над Москвалымью воспарил — ученья серп, персея, населенью подарил!», хитробуро играть на солнце передовиц — мех лис! — писать вправду оперу про дружбу, заводить вручную трактаты «Сомнения в происхождении древлян от обезьян» (непосредственно от Велеса зародились, утверждали), ну, глумиться привычно, не без того, как дядюшка Ху-Ху, составивший прошение, чтоб не теснили малую францию на Даль Восток, а отпустили на Большие Бульвары… Ведь согласитесь, столько лет протрубили на благо москвалымское, не поверите — от первого обер-полицмейстера до последнего оперуполномоченного, вызнали Колымоскву наизусть — от пеленок до дрог! — рожденье, рост, распад… И получается, что все в трубу, в желоб! Многое тогда накрылось и накренилось. Хватали даже авторов эссе «Рабкрин — криница чистого разума» и «Летосчисление — от Ста». А ведь казалось, что слиплись накрепко парх и орус, срослись в один мозг — не растащить полушарий лошадьми… Без жи не выловишь и девицу во ржи, хоть как ни ворожи, не переведешь и эвридик через майданек, смикитив чтением, что смерти нет почти — это такой Изход, те, кого мним мы исчезнувшими, тихо ушли вперед. «После изгнания пархов Университет ничего не потерял — его просто не стало». Ах, пархи на Горах, в лесах Москвалыми — безбыточность изб, неуемность грез, избыточность начитанности, базар-вокзал, наше внутреннее тождество, одноструктурность души, тайная близость, глядь, темных национальных тайников… Парх мудро един во множестве. Повторяю: Семь-Я! Мыдиночество. При этом по царапающим древним законам («Цадок Цудей»), ежели все голосовали единогласно — приговор считался недействительным. Мы воздерживаемся от единомыслия. Парх — пионер свободы! Под салютом всех вождей, выплюнув жеваную промокашку, трижды через левое плечо торжественно клянусь — мы сохраним москвалымскую речь, колымосковское слово! Умыкнем льдынь, согрев дыханьем… Оторвав язык от железяки дверной ручки Колымосквы. Обкарнав горшком и обложив горошком. Еще и нарастим мяса словес — в морозилке памяти… О, ледяная Дорожка Жизни и Колымосква — полынья ея! Идешь с лукошком мороженой морошки меж валежника инистой клюквы, клюкнув на дорожку, сосешь льдышку, стучишь понарошку клюкой в замерзшее окошко — эй, сплюшки! А не нужны мы им, кочерыжкам… Хоть на голову встань и болтай в воздухе ногами в смешных чулках… Не впечатлит. Попытки, конечно, делались продышать проталину, заштопать разбитое — шито-корыто — но полный втунец. Так наша плутня с москвалымской псарней и закончилась — была такова! И по лицу румянец пробежал… Альрои дизраили на зеленом дизеле… Снегорои и пескокопы — анчарня рабская… Шли вши по шерсти, а вернулись стрижеными — в колонку по пять, в лаг! Помните по хедеру стационарное решение уравнений общей теории эйносительности — туда нарочно был введен лямбда-член — гипотетическая величина отталкивания. Вот и мы, домоседы, с Колымосквой дикорастущей — взаимно, мда… Лямбда-член до колен! Еще бы — чащобы, крещобы… По головке не погладят! Смысл Колымосквы — онтологически — в том, чтобы исторгнуть нас. Она таки — матка. Погранзона дна — п/з аид. Отсидели в овой свое! Там, на реках вавилонских, вспоминая про Сион… Вносили родимчика в святцы текстца — и в «вавилонских», и в «вспоминая» — есть Сион… Имеется у пархов такое мистическое понятие «тикун» — исправление, то есть ты разгибаешь подкову, испрямляешь судьбу. Мы — вечные тикуны, беглецы, тикающие от предопред. Ото всех ушли. Юдоцид падлы пытались зробить — цидулю залудили «Указ сослать под откос», да мы ускользнули — слиняли с Нилу… Мир ловил нас да не поймал — не засалил, не засолил… Сей Изход вбили в нас сапогом, прямо в морду. Стрельцы в тельца! Сзади — хряк! Внезапное пробуждение! Станция Вылезай! Па-адъем! Пойдем! Извините, но если паллиативный палящий путь с чайником один — из пархов в зеки — при этом еще с вывалом везут, еак, еак по кочкам — сбросить с фило парофоба! — то тут уже не до раздумий. Мы, жи — некая жидкая субстанция, избирающая себе наиболее удобное русло. Как пряму ехати — живу не бывати! По безводью надо… Чуть задели больную струну, поддели из котлована на вилы — мы хлынули и утекли. «Ыв течения пара дней». Это хасиды ввели дорожный термин «сокращение расстояния» — сотни верст за четверть часа, в один присест, оседлав ребе. Есть-либ мы, москвалымцы мойсева закона, пархейской веры, отвергли Изход, то сделались ли бы чрез то достойными? Адда и нам царих пархачить, дабы блаженеего стана достичь и скрижаничи усинаить. В общем, выперли с треском! С зашейным маршем проводили! Через метро ушли. На Москвалыми недаром оно называлось «Лазарев подкоп». Великая подземная дорога имени его — причем он сам и вел, приняв собирательный образ — прост, усат, пузат, картав, картуз… Кружил, конечно, кольцевал, петли наматывал по нижним сугробам — схема осталась — сбивал с толку, а ну как погонятся, когда проспятся. Лазарь, наркомзим! Человек, который пожалел человечество. Нашел лаз… Был Лазарь простой кожевник (а врали — венеролог!), даже кажется и не парх по происхождению. Малограмотный, плохо говорящий, быдто кончал Заиконоспасскую гимназию им. Зимы Преображенной, класс с углубленным изучением искусства выбегать с флаком. Был он умен наобум, ткнет — и попал. Все как есть знал, под землю видел. Что ни предскажет — все не так! Но апломб, уверенность эта — мда-а, дано было!.. Хороший человек был Лазарь Моисеевич, когда еще был человеком — с ним хоть ершей ловить, хоть что хошь… Братец на Шкафуте! Надоть, талдычит, людишек из одного хлева в другой перегнать. Твердое решение. А что пока допрешься — упаришься, шутка ль, сорок две стоянки! — не сообразил, когда сморозил. О, Лазарь — странный, «прозёванный» соборянин пархов, у Бога в стряпчих состоящий, поверенный воинства Всевышнего, воистину — «из бранный»! Колесничий Изхода. Не голова, а белковый процессор. Разумен и велик. Хотя отроки нынешнего поколения «велик» читают как «в лик» — вытравили, увы… А ты сам, зоил трехколесный, видал ли Лазаря? А как же! Крупный организатор голода — Царь-Раав, страж фуража, викжель-путеец в фуражке с косточками-молоточками, метроном эпохи — орган Ну-Ка Be-Ди! И вот, после лет непрестанных страданий и колебаний, он встал ночью, утвердился во вратах стана, велел запрягать, сказав: «Кто за Яхве, ко мне!» — и покинул Колымоскву навсегда с народом своим. А мы это сидим, едим, галдим, глядим — ташшыцца, лазарует, знает места, ну и — за ним! Менять насест на нерест… А помните, как он славно в тот прощальный вечер в трапезной напрудил в углу? Прямо на обои накупринил, аки под кустом — неопа! — и объяснил кротко: «Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с. Сион грядет!» Остосоловьели ласки в тисках. Больной «испанкою» сапог Колымосквы… Надыбали Изход! Из Колымосквы выходили не голодранцы — каждого парха сопровождали девяносто ослов-босяков, груженых серебром и златом. У меня, други, под рукой завалялся свиток-стенограмма Изхода, я вам оттуда отчетливо зачитаю: «О, соотчичи, славящиеся кротостью и милосердием! Прощай зло соседу-славягу! Выкупай у гоя, а если заупрямится — проломи ему затылок!» Короче, рванули косягалом в верхние слои… Оставили этих голотурий ил глотать! Тут ведь как еще получилось-то — смехота! Хотела эта гопа вчистую прописать нас на Дальний Восток — жареные раки, я живу в бараке, паки и паки, рядовые кимы! — но по пьяной лавочке, по ассоциации с Ближней Дачей — опа, выслали на Восток Ближний! Как и было тонко задумано и точно рассчитано. Со временем (да наутро) опомнились, опа-два, схватились за башку, а она ломит — то не лед трещит! — ругались на чем свет сидит, кинулись наутек ловить, да нас уже след простыл!
Ну-с, поплыли. Баржи ржавые, выежестокие, как жесткое плацкартное верхнее боковое возле туалета. Дружелюбные сивоусые сивучи за бортом снуют — бивнястые моржовые рожи высовывают, лоснящиеся мордочки кажут — что за море-то такое?! Опять — Лаптевых?! Пингвиния щихлебательная! Горе лыковое! Лед раскололся, плыли по разводью. От качки страдали слегка. Не беда, доплывем с Лазарем до земли Яффской, вялотекущей мычаще и жужжаще — маяк с каяка виден издалека однако… Фира просила — рифы обогнуть бы. Я разговаривал с гребцами, они говорят — «Потрафим». Куда везут? Кто лопочет — в пустыню, на погибель. Другой комзет язвит, что на Новую Землю Обетованную, к белым песцам. Утверждал, что плывем в рай, враль. Убеждал — не пройдет и двух лун, врун. Услаждал слух и нрав, рав — причалим к ужину, зажжем свечу, омоем руки и преломим хлеб. Стол будет врыт и накрыт под смоковницей. В теплом воздухе будут носиться светлячки и падать на скатерть и между страниц Книги. Эдем, едим. Какой покой, ой. И мы, насельники снегов колымосковских, собрались в Путь Зуз, то есть в Дорогу Движенья — и расступились, сиречь растопились, льды яже неподвижны, и мы прошли по вполне неблагоприятной суше и превесьма бурному морю без слез, без визгов, как сказано в пророчестве, почти довольные, уже кцат чужеземные, космополизные, а и то — могло куда хуже быть. Вот остались бы в сугробах и прозябали робко, кожа пупырышками бы покрылась. Мало того, не содрали бы ее совсем! Мол, даешь кожанки на абажуры! Да уж, вовремя уплыли мы из города Белых Стен, успев до Белого Каления, а то что-то здешний крестик от пещного нагревания на концах чуток загнулся по солнцу, — вышли в количестве шестисот тыщ штук, недород — а большинство-то не свалило с вавилону, предпочли-с кисляи остаться в лубяных шрастрах, а не юртиться в шерстяных шатрах — статистика, исторический кунстштюк! выветрились, элювии! вырядились, скарабеи клювастые! выродились, кошек скребут! — ироническое отречение от скарба избранничества, тягла извечного терничества, кроткий векторушко — скоротать век… Прискорбно! Разбросало по белу салу! А мы, наивно уверовавшие в исайкино БИЛУ (беги — изходи — линяй — уматывай), в евойные предсказамусы: «Ужасный правитель снежной страны варваров истребит своих соратников и изгонит древнее племя в дальние земли» (центурия 7, катрен 49), мы, глядь, изготовились заранее — «Имея при себе смену библейского белья, ложку, кружку, тфилин…» — и поехали с котомкой кататься морем. Ной! Красота! Мы едем, едем, едем… Едем — да с зайном! Терракотовый баркас! Стучат картаво пароходные колеса: шлеп-шляп, хлюп-шлюп, тра-та-та, врата рта, мы везем с собой кита, а кота уж нет, улыбка — та далече, растаяла, остался лишь мешок, в котором шило, мыло, гойдадыров порошок, в кишках культурный шок наплакал насилу — улисс в поле дыр-дыр-дыр — помянем прошлое, тех щец мясной горшок, ужели прав Моше, удрав, и лучше раз увидеть, не входя… Наш дедка-предка Авраам, в пятьдесят два года открыв для себя Творца, отыскал по птицам эту гипотетическую землю и вошел к ней четыре тыщи лет назад. Отгадайте по внутренностям, какой год был по пархянскому летосчисленью? Приснопамятный 1948-й — вот какой! Прижало, видно. Потом там Иаков встретил Рахель и любовь выскочила из-под земли — причудливо тасуется колодезь! — ну и прочее далее. Лея под хвост! Привалило лото: