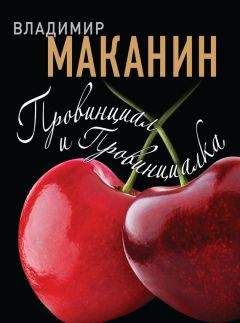Майя сникла – так всегда, если неприятность случается на ночь глядя. Она вертит в руках письмо. Ключарев же решает, что наплевать. И слава богу, унижения кончились. Будет он еще расстраиваться в такие минуты!..
– И поедем мы туда все вместе. Главное, я хочу, чтоб дети – понимаешь! – чтоб дети увидели.
Он продолжает говорить и достает чемодан – щелчок замка, первый звук дороги.
– Ты все-таки позвони Рюрику, – говорит Майя тихо.
– Ладно. (И не подумаю.)
– Ты ему как бы между прочим. Ведь не может быть, чтоб он отказал тебе без объяснения…
А Ключарев опять о своем, о Поселке, – и начинается как бы дуэт. А руки укладывают в чемодан необходимое (руки Ключарева) или вынимают из шкафа, молчаливо предлагая: «А это возьмешь?» (руки жены)… Неужели они не помнят, как рабски, буквально за копейки, работал ты для них ночами?.. Ничего они, Майя, не помнят. Это мы помним, а они не помнят… Руки (жены) хлопочут, из отобранной горы тряпок руки выбирают самое необходимое и укладывают на дно в нужном порядке, а затем руки (это уже руки Ключарева) застегивают чемоданчик, сдавливая его так, что немеют пальцы.
Наконец Рюрик забыт. Проводы – вещь святая. И вот те самые тихие минуты, когда все готово и собрано, а стука колес еще нет. И Ключареву опять хочется быть лучше и проще.
– Жена, – говорит Ключарев нарочито торжественно, как на сцене, – я хочу помыться перед дорогой!
– Слушаюсь, полковник.
– Жена.
– Что такое?
– Люби мужа. Помни его. Не дерзи.
Майя в конце концов вспылила:
– Болтун! Ей-богу, надоело.
А Ключареву не надоело ничуть. Он балагурит, открывает кран и наполняет ванну. Горячо. Пар. Он обожает этот водяной жар и блаженную расслабленность тела. И когда уже вылезает, раскрасневшийся и чистый, басит:
– Ах, хорошо!
Он босо шлепает к постели – перед этим открывает окна настежь, – лежит не укрываясь, дышит.
– И ведь не простынет! – говорит Майя с оставшейся укоризной в голосе.
И верно, он не простынет. Это похоже на некий внутренний механизм (последняя ниточка Старого Поселка, добротность генов и естественного отбора), и этот механизм сам собой через полчаса-час как бы нашептывает Ключареву на ухо – даже если Ключарев спит, пьян, болен, в любом случае, – он вдруг нашептывает: «Хватит. А вот теперь встань и прикрой окна», и тут Ключарев послушно выполняет, даже если он спит, пьян или болен. Но пока сигнала нет, можно лежать и лежать, хотя сегодня и холодно, и ветер.
– И надо ж быть таким здоровым! – продолжает Майя, оглядывая его не без зависти. И рассуждает уже деловито: – В нашей суматошной московской жизни для тебя это как подарок…
Ключарев с наслаждением вдыхает холодный воздух и говорит любимое словцо:
– Дар.
На минуту он грустнеет, думая о том, чей это дар. И откуда он. Последняя ниточка.
Ночь. Ключарев пока не спит. Он лежит, и вокруг темнота комнаты, и уже подступает сон. (Завтра дорога!) Хочется закурить, затянуться, – не надо бы, ночь уже… И вдруг думается. О письме Рюрика. Ключарев еще тогда понял суть письма, но жене не сказал: лишняя обида. То дерьмо, которому Ключарев не написал отзыв, вроде бы в стороне, но – за него просила Наташа, а к Наташе вхож некто Шикин. Свой человек. Свой, а не просто так. А Шикин и Рюрик приятели (как можно быть приятелем Рюрику – да, говорит, дружу с мумией, а что?)… Так что круг легко и понятно замкнулся. Свои люди.
Или – и тоже ненавязчиво, спокойно – представляется вся эта компания, застолье и шум, и руки всех тянутся к тем замечательным фужерам с поразительно тонкими ножками. О Ключареве они уже поговорили. Мельком, конечно. И вот Наташа (и это она уже острит, пошучивает) бросает фразу: «Ключарев не помог нам с отзывом – зато поможет в другом!» В переводе с юмора это означает, что внештатную работу заберут у Ключарева и передадут кому-то. Может быть, тому же дерьму, который без отзыва, а может, и другому или третьему – не суть важно. Важно, что деньги будут там, среди них, в их группе. Были у них, у них и останутся.
– Как это Ключарев поможет? Я не понял, – скажет кто-нибудь среди застолья.
И этому недотепе, лишенному чувства юмора, пояснят, что у Ключарева забирается его побочный заработок, и тем самым (вот она, тонкость мысли!) Ключарев будет как бы отдавать им свои деньги. А это уже можно считать помощью. В шуточном, разумеется, смысле. В утонченно-шуточном.
– Не помог в одном – поможет в другом! – повторяет Володик Зарубин слова Наташи в неописуемом восторге: сшибка мыслей, а ведь вершиной сшибки всегда истинное «бон-мо».
И лишь Хоттабыч, щуря умные глаза, вздохнет:
– Ну и язычок у тебя, Наташа.
И уже в последний раз они поговорят о том, каким нехорошим оказался этот Ключарев. Работа, мол, да, не блестящая. Но, господи, сколько ж делается неблестящих диссертаций, и уж он-то, Ключарев, об этом знал… Ладно, мол. Хватит о нем.
И вся компания представляется просто, ясно, понятно. И нет озлобления против них. Ночь. И завтра ехать. И бог с ними. Пройденное. Уже пройденное… И в общем, это даже занятно, что их кольнуло. Задело, значит.
Завтра – дорога. Ключарев засыпает, и даже во сне счастливая улыбка нет-нет и ползет по его лицу.
И последнее. С глазу на глаз с начальником. После совещания. Иван Серафимович объясняет Ключареву, что в командировке надо будет держаться строже. Дело придется иметь с Назаровым. И тут важно не растаять, взять нужный тон – ведь оттенок отношений наложится на все наши шесть лет…
– Назаров – инженер интересный. Но льстив… И хитер как бес.
– Я слышал о нем, – говорит Ключарев.
– Так что смотри. Не дай им диктовать, как и в какой последовательности нам работать…
– Понял.
Иван Серафимович трогает пальцами свой новый галстук.
– Нравится? – спрашивает он, смеясь.
– Заметный.
Они оба смеются.
– От дублирующего второго отдела, – говорит Иван Серафимович, – поедет Бубин-Ярцев. Знаешь его?
– Нет… А как он?
– Новичок. Но, говорят, толковый… Вот вдвоем и поедете. Он сейчас придет – обещал быть с минуты на минуту.
И верно: стук в дверь, входит Бубин-Ярцев. Ключарев вспоминает, что все-таки знает его, – как-то виделись в столовой, а как-то даже поговорили, вроде бы о шахматах. Он одних лет с Ключаревым, а зовут его вроде бы Алексеем, так и есть: Алешей.
– Едем, да? – спрашивает Бубин-Ярцев весело и энергично.
Сияние лица выдает его неопытность. Иван Серафимович делает Ключареву незаметный знак: дескать, видишь и, дескать, волей-неволей возьмешь на себя роль опытного командировочного волка. Ключарев кивает: хорошо… А Иван Серафимович продолжает:
– Назаров и другие – они, конечно, наши заказчики. Но заказчики – это еще не хозяева. Так что, ребята, советую вам быть начеку…
Они в поезде. Поигрывая с Бубиным-Ярцевым в шахматы или просто посматривая в вагонное окно, Ключарев нет-нет и прикидывает дни. Ага. Три дня подряд там работа, а дальше суббота и воскресенье – и, значит, он свободен. Что ж, в пятницу вечером он уже может оттуда смотаться. Еще полдня пути. В субботу он уже будет в Поселке. Н-да. Всего на один день. Не густо.
Вот именно. Не густо. Он собирался – ну пусть не собирался, а хотел, мечтал, не в слове дело, – он хотел бы пожить там, не считая времени. Ну пять, ну шесть дней, главное, чтоб не считая, пока оно само не кончится, пока чувство не исчерпает себя само, незаметно и неторопливо. Но это ж ясно, что не бывает так, как хочешь. Значит, один день. Да боже ты мой. Да ведь и за час один благодарен будешь.
В пятницу, когда все они – человек десять – вышли из светлого дюралевого помещения подышать воздухом, Ключарев говорит. Нет, сначала он смотрит на ровную степь с ковылем – видит фигурку суслика, который у своей норки делает стойку, – и вот, уставив взгляд на эту неподвижную фигурку-колышек, Ключарев говорит, что он собирается отлучиться на время. Да, на субботу и воскресенье.
– Хочешь кое-куда съездить?
– Да… Это ненадолго.
– Ну ты подумай! – всплескивает руками Назаров. – Вот что значит командировочный волк. Уже знакомых завел!.. И представьте себе – куда этот Ключарев ни приедет, хоть на Камчатку, хоть в голую степь, ему тотчас надо кое-куда съездить!
Все смеются. Сказанное не обязано быть ни правдивым, ни даже правдоподобным – это шутка, разрядка. Так всеми и понимается.
– А я ведь собирался тебя на охоту пригласить в эти дни. На уток, – продолжает Назаров; выглянуло солнце, и Назаров тоже светится; в его голосе и размашистость добродушного хозяина, и сознание своей значительности. – А то постреляли бы, а? В Москве ведь такого не будет.
Он прибыл туда вечером.
Городок – тот, что был на другой стороне реки, – стал уже немаленьким городом. Разросся. Подъезжая, Ключарев видел огни и оценил. Тут же на станции Ключарев заказал разговор.
– Я уже в городе, батя. Я на вокзале.
– В каком городе?