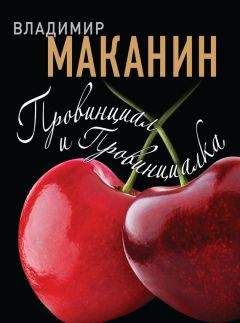– В каком городе?
Отец, видимо, со сна. Заспанный голос. И понимает с трудом.
– В нашем. В нашем городе… Мне перейти реку, и я уже в Старом Поселке.
– Из Москвы приехал?
– Ну, а откуда же?.. Конечно, из Москвы. Ты что, батя, спал?
– Это хорошо.
– Что хорошо? – раздражается Ключарев.
– Приехал, это хорошо. И давно ты там, сынок?
– Батя, дай-ка мне маму.
Берет трубку мать, и теперь все проще и быстрее.
– Я-то что просила, сделал, сынок?
– Еще нет. Я только с поезда… Ты подскажи мне. Я помню и, ясное дело, найду. Но все-таки подскажи.
– От третьего барака тропкой кверху, – быстро заговорила, заторопилась она.
– Это я помню.
– И дубок помнишь?.. Ну, ты его сразу найдешь. Там дядька Ваня лежит. От него ровно десять шагов до Юрочки.
– Так…
– А мерить эти десять шагов – прямо как будто вдоль реки идти.
– Так…
– И еще тебе, сынок, примета. Если с Юрочкиной могилки смотреть, дуб тот стоит разворотом… Ну, как будто он раскрылся – веток с твоей стороны совсем мало.
Вновь берет трубку отец. Он уже не сонный, и они спокойно говорят – отец жалуется на здоровье.
Ключарев платит за дополнительные минуты разговора. В вокзальном буфетике он пьет кофе – руки непривычно свободны, ни чемодана, ни портфеля, легко и освобожденно. Он еще выкуривает сигарету у вокзального входа – скромный ритуал, теперь можно идти.
Как скоро здесь темнеет!
Он переходит реку и уже с моста – ни огонька – чувствует настораживающую пустоту. Ноги ведут дальше сами собой, и все оказывается так просто, что проще и не бывает. Старый Поселок мертв. Пуст. Ни бараков, ни котельной, а дорожки превратились в тропки.
Он не заметил, как сошел с тропы, – как скоро темнеет, – он идет по грудь в бурьяне, долго идет и выходит к остаткам двух бараков. Бараки, как искрошившиеся и сработавшиеся зубы, – остатки стен, развалины. Или совсем ничего. Остатки остатков… А это кто? Ключарев замечает в полутьме какого-то старика: тот собирает возле развалин доски, сидя на корточках.
– Нет, – хрипло отвечает ему старик, даже головы не повернув. – Никто не живет.
– Переехали?
– Ага. Переехали. Или поумирали.
Ключарев растерянно усмехается, в мыслях непонимание и несоответствие минуте – вот ведь приехал. В горле что-то схватило и держит. Ком в горле. И Ключарев говорит с ненужным, нервным смешком:
– А хоть кладбище за горкой осталось?
– Кладбище осталось. Куда оно денется.
– Всякое бывает…
– Осталось, осталось! – угрюмо подтверждает старик, показывая, что уже поговорили, хватит.
Ключарев шагает, так себе, без направления – и все улыбается застывшей улыбкой. Как-нибудь и боль будет, и печаль тоже, а сейчас нет – пустота.
Вот его, Ключарева, барак. Предположительно, конечно. Тут уже вовсе развалины: тропка, бурьян и темные поросшие камни. А глянуть назад, перед глазами в обратном порядке – камни, бурьян и еле видная тропа. Ключарев бродит и каждую минуту ловит себя на том, что никак не может совместиться с этим вымершим местом.
Мы с ней учились в одном небольшом городке, в одной школе – только я всегда был в классе «Б»: это называлось в параллельных классах. А затем, окончив школу, поехали поступать в институт, в Москву, и опять встретились: встреча произошла в студенческой столовой. Но мы были еще не студенты – мы были только-только с поезда. Мы ехали в разных вагонах и друг о друге не знали.
Мы столкнулись у кассы, там восседала женщина и нажимала клавиши – столько-то рублей и столько-то копеек, следующий, я вас слушаю. Нам это было в диковинку. И тогда же произошел случай со «вторым компотом». О нем позже.
Валя и сейчас живет и здравствует, но к ней очень подходит эта интонация прошедшего времени. Была такая девочка. Валя Чекина. Милая и славная. И так далее…
Отец погиб в 1944 году.
Похоронная прибыла в далекий уральский городок рано утром, и Тося Чекина не пошла на работу. Она плакала до самого вечера.
К вечеру пришла тетка, Мария Васильевна.
– Хорошее училище, дельное, – говорила тетка. – Отдавай туда Валечку, и половина детей, считай, устроена. И форма ей будет, и питание…
– Поварское, что ли?
– Ну да. Хорошее училище.
– Нет.
– Почему «нет»?
– Чекин всегда говорил: убьют меня или не убьют, а Валечка пусть учится.
– А в училище разве не учатся? И с нашим хлебозаводом они связаны. А еще знаешь что? Их после училища в самые разные города посылают.
– Ну? В большие?
– Даже в Москву. Повар везде нужен.
Но Тося Чекина стояла на своем:
– Вот Сережа подрастет – пусть идет в поварское. А Валечку не пущу. Да еще и думать-то рано об этом…
– Это верно. – И тетка вздохнула, бережно положив на стол похоронную.
У Чекина было двое детей – Вале восемь лет, а Сереже ровно год.
– Тьфу ты! Опять свет погасили…
– Экономят, – вздохнула Тося.
Помолчали.
– А Валечка не боится в темноте? – спросила тетка.
– Нет… Валя!
– Я иду, мама.
Валечка пошелестела тетрадями и пришла из той комнаты.
– Я как раз уроки кончила. Ну как раз, мама!
– Вот и умница.
Тетка шепнула:
– Не знает? Не говорила?
– Нет еще, – сказала мать и спросила у Вали: – Значит, кончила уроки?
– Как раз. Последнюю цифру написала – и погас свет!
– Молодец…
Маленькая Валечка почувствовала, что мать хочет ее обнять, и ощупью, в темноте шагнула ближе и ткнулась в живот матери.
– Молодец. – Мать погладила ее по голове. – Первоклассница моя… Скоро ли Сережа наш таким будет?!
– Скоро, – сказала тетка. – Если пошел, теперь все скоро.
– Нет… – сказала мать. – Он еще не ходит.
– Как не ходит? Сама видела…
– Будет врать-то.
И тут вмешалась Валечка:
– Мам, это правда. Пошел Сережа. Сегодня пошел.
– Да?
– Ты ж весь день болела, мама. Вот и не заметила…
Мать промолчала. Тетка тихонечко вздохнула и в темноте потрогала рукой на столе похоронную. А Валя с детской обязательностью и настойчивостью еще раз пояснила:
– Ты болела, весь день лежала, вот и не заметила.
В девятом классе Валечка Чекина читала запоем, особенно же ей нравился Бальзак. Выпущенный золотистый пятнадцатитомник докатился волной до самых глухих городков.
– И ты все это читала? – с завистью спросила подружка-одноклассница.
Обе только что пришли из школы – уже вечер; и Валя ответила ей со значительностью:
– По второму разу читаю.
– Нравится?
– Очень.
Обе бросают свои портфели. За окном – зима, долгая зима провинциального городка. Долгий зимний вечер с вьюгой. Да еще матери работают в ночную смену – дивное время! Можно бы сесть за домашние уроки, но девятиклассниц уроки не очень-то пугают.
Обе сидят, нет, полулежат на пуховой материнской перине, две подружки. И Валя читает заложенные страницы.
– Иди, иди! Делай уроки! – кричат они маленькому Сережке, если он вдруг входит к ним.
Он кое-как перешел во второй класс, он вял и совершенно безлик.
– Мне скучно, – робко лепечет он, появляясь в дверях.
– Иди, иди.
Наконец они вспоминают, что его пора кормить и укладывать спать. Ест Сережа медленно и вяло: он вообще апатичный. И какой-то прибитый. Ни жизни в глазах, ни искорки.
– Ешь быстрее!
Сережа равнодушно жует. Они подгоняют его с неосознанной подростковой жестокостью:
– Ну ты – дите войны!.. Быстрее!
Для них это шутка, а смысл выражения далек. Сережа роняет ложку. Кажется, он спит над тарелкой.
– Ну ты посмотри на него! Его можно в цирке показывать! – говорит Валина подружка. Перед глазами у нее все льется сладкий мед читаемого романа. И Валя берет ложку и энергично «докармливает» – впихивает ему за ложкой ложку.
– Вот он всегда такой. Его в школе даже девчонки бьют, а он только нюнит… Плакса! И каким он только в жизни будет?! Дите войны, еще немножечко кашки?
Но каша изо рта Сережи вываливается опять в тарелку. Он как бы спит.
– Хватит! – решает Валя. Поит сладким чаем и быстро укладывает его в кровать.
Валя собирает ему на завтра портфель, затем они гасят в его комнате свет. А сами, прижавшись, опять утыкаются в золотистую книгу.
– Сейчас, – шепчет Валя, листая. – Сейчас я тебе прочитаю, что она ему ответила…
– А этот журналист ее еще встретит?
– Да. Такая любовь будет!
– Найди-ка, листай быстрее.
– Подожди. Гляну в комнату.
Валя идет к уснувшему братишке. Она подтыкает углы одеяла и возвращается, чтобы, отыскав, читать щемящую страницу. Барак полузанесен. За окнами долгая уральская зима, а мать работает в ночную смену.
– Сейчас, сейчас, – шепчет Валя, листая книгу.
В конце девятого класса Валя была влюблена. Она была влюблена и в десятом, вплоть до самых выпускных экзаменов. В преподавателя литературы. Самая подходящая личность.
Однажды поздним вечером она не сдержалась, заплакала и кинулась к матери. Уже ложились спать. И вот, худенькая, в ночной рубашке, заливаясь слезами, Валя кинулась. И шептала матери, что «сильно-сильно» любит.