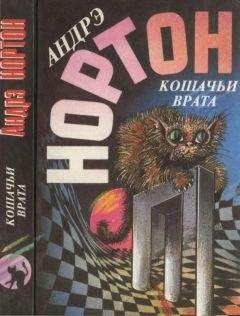Я вернулась необычно рано, в начале двенадцатого, когда Ольга еще только готовилась к своему очередному ночному выходу. Увидев меня, она обрадовалась. В последнее время нам почти не удавалось хорошенько поговорить: днем она клевала носом, вечерами я уходила «на десерт», а к моменту моего возвращения ее уже не было в комнате.
– Санечка, милая, пойдем, покурим!
Мы вышли в коридор, к торцовому окну, чья душа нараспашку была постоянным свидетелем наших ночных перекуров. Подругу явно распирало от желания поделиться со мной радостью, и я, на минуту забыв о своих проблемах, залюбовалась, глядя на нее: сейчас, накануне свидания, Олька светилась какой-то особенной, победительной красотой.
– Ну что, – сказала я, – выкладывай. Каковы они, заграничные козлы?
– Ты что! – она выпрямилась, изображая шуточный гнев. – Он совсем не козел. Санечка, Санечка… ох, если б ты знала, Санечка…
– Неужели так хорошо? – улыбнулась я.
Ольга округлила глаза.
– Даже лучше! У меня никогда так не было. Он такой нежный, как… как…
– Как манная каша? – предположила я.
Мы обе рассмеялись.
– Нежнее, – Ольга глубоко вздохнула и облокотилась на подоконник. – Намного нежнее. Веришь ли, сколько у меня парней было – не сосчитать, но только этот настоящий. Наверно, мне такой и нужен был. Нежный. Понимаешь, я просто не знала, как это – любить. А сейчас знаю. Даже самой не верится. За что мне такое счастье?
– Погоди, а как же вы разговариваете? Он по-русски ни бельмеса, да и ты по-немецки нихт ферштейн…
Ольга пренебрежительно фыркнула:
– Ну и что? Ты же сама мне когда-то говорила: на этом этапе слова вовсе не нужны. Помнишь? Так вот, считай, что я это на себе проверила: правильно, не нужны.
– А что потом, Олюня?
Было непривычно разыгрывать роль взрослой многоопытной женщины, но так уж поворачивался наш перекур. Я вдруг подумала, что Ольгу потому и распирает от желания поговорить, что ее любовь с Райнеке совершенно нема, немей немого кино, где хотя бы есть титры.
– Потом, потом… не знаю… – вздохнула она. – Не знаю, что потом. Выучусь говорить по-немецки, вот что. А ему русский учить не надо. Мы тут жить не будем. Я к нему уеду, в Дрезден. Потому что тут одни козлы. Мужики, в смысле. Въезжаешь, Саня? Все наши мужики – козлы. Уж я-то знаю, многих перепробовала, причем не самых худших. Ты думаешь, твой Лоська не козел? Сама ведь говорила: лоси – парнокопытные. Значит, тоже козел, только лесной. Невелика разница.
Возражать не хотелось. Настоящую проверку на козлиность мой Лоська и в самом деле еще не прошел.
– А что Блонди? – спросила я.
– А что Блонди… – отозвалась Ольга. – Ходит, сучка, кругами, вынюхивает.
– Еще не почуяла неладное?
Она пожала плечами:
– Если и да, то вида не показывает. Райни маскируется, как немецкий снайпер. По нему и не скажешь, что ночи не спит. Когда с завода возвращаемся, ложится будто бы с книжечкой, и тихонечко так кемарит. А Блонди и довольна: парень в комнате, под наблюдением.
– Значит, все в порядке?
Ольга вдруг поежилась:
– Если честно, то я Миронова куда больше боюсь. Уж не знаю, кажется мне или что, только он как-то странно на меня поглядывает.
– Поглядывает? – переспросила я. – Ну и пусть поглядывает. Наплюй ты на эту сволочь. Ты ничего противозаконного не делаешь. Весь отряд уже давно на пары разбился. Во дворе по ночам каждая скамейка стонет. А ты что – инвалид? Или обет безбрачия давала?
– Вот уж чего точно не было, – рассмеялась Олька. – Спасибо, Санечка.
– За что?
– За перекур. С тобой поговорила и вроде как-то дышать свободней.
– Свободней-то ладно, дыши. Главное, чтоб негромко, – посоветовала я. – А то Блонди разбудишь…
В ту ночь я долго не могла заснуть – ворочалась, скрипела пружинами панцирной койки, переживала за Лоську. Я еще никогда не видела его таким – по-настоящему потрясенным. Он ведь вообще казался со стороны этаким флегматиком, способным разве что на легкое беспокойство. Но я-то знала, каков он на самом деле: тонкокожий, ранимый лосенок в лесу, полном волков и медведей. Дорого бы я дала, чтобы взять на себя его нынешние тяготы: кому еще защищать моего милого, как не мне?
В пятом часу вернулась Олька, усталая от своего горячего счастья, молча залезла под одеяло и отключилась, едва донеся голову до подушки. Наверно, ее необоримая сонливость передалась и мне: я наконец задремала. По идее, мне должен был сниться Лоська – ведь именно о нем я думала, засыпая. Но поди пойми эти сны: приснился не он, а почему-то противный комиссар Миронов. Миронов бегал вокруг меня и вопил, потрясая смутно знакомой папкой с тесемками: «Не сносить головы! Не сносить головы!» Он бегал, а я все думала, откуда взялась эта папка – почему-то именно этот вопрос казался мне особенно важным. Ответ на него я вспомнила только тогда, когда Ольга сильно тряханула меня за плечо, чтобы разбудить.
– Из портфеля…
– Из какого портфеля? – недоуменно переспросила она. – Вставай, Саня, проспали. На завтрак уже не успеем.
Папка во сне была той самой, из портфеля обер… нет, «обер» – это из другой оперы, про эсэсовскую собаку Труди. Обер-штурм-бан… и так далее, а тут был «опер». Из портфеля оперуполномоченного Знаменского. Вот оно как, помнится до сих пор.
На работе мы с Ольгой одинаково клевали носом. К счастью, опять чего-то недопоставили – то ли огурцы, то ли чеснок. Олька расстелила в тенечке под стеной свой ватник и залегла. Попробовала задремать и я, но, увы, безуспешно. Пришлось закурить не помню уже какую по счету сигарету и сквозь плывущие перед глазами круги разглядывать заводской двор и семерых немецких гномов, которые под руководством своей трудолюбивой овчарки снова перетаскивали что-то со вчерашнего места на позавчерашнее.
– Смотри-ка, опять за ночь наработалась! – насмешливо произнес кто-то рядом.
Я обернулась. Мимо нас шел бригадир Копылов с двумя ребятами из стройотряда – Сергеевым и Потаниным. Эти двое работали в соседнем цеху на погрузке. Я так и не поняла, кому из них принадлежала услышанная мною реплика.
– А чего тут такого, парни? – ухмыльнулся бригадир, ощупывая взглядом спящую Ольгу. – Хороший станок в три смены работает.
– Да пусть себе работает, – отозвался Потанин. – Лишь бы токарь-фрезеровщик был наш, русский. А то ведь, бывает, повадится какая-нибудь немчура наши дырки фрезеровать… Правда, Райнеке?
Последние слова он прокричал через весь двор – так, чтобы услышали немцы. Райнхард распрямился и, улыбаясь, помахал в ответ рукой.
– О, – недобро процедил Сергеев. – Машет тебе, пидар мокрый. Улыбнись, ему, улыбнись, может, он заодно и тебя отфрезерует.
– Повадился, говоришь? – покачал головой бригадир Копылов. – Значит, отвадить надо. Это ведь как с лошадьми, парень…
Козлы прошли дальше, оставив меня в полной неизвестности, как именно «надо с лошадьми». Я оглянулась на спящую подругу. Олька безмятежно причмокивала во сне: она ничего не услышала, и слава богу. Но кое-что мне придется ей рассказать, когда проснется: о ее романе с немцем известно, похоже, всему отряду. Пусть знает. Хотя, что оно меняет, это знание? Я вдруг подумала, что, наверно, так же сомневалась моя мамуля, прежде чем написать о разговоре с Валентиной Андреевной. Подумала и переключилась с Ольгиных проблем на свои. Потом очень кстати подошел Сатек и принялся балагурить в своем фирменном стиле – не совсем правильно по-русски, и оттого еще более смешно. Это немного отвлекло меня от мыслей о Лоське. После обеда привезли-таки недостающий ингредиент, и мы честно работали целых два с половиной часа, пока не закончилось что-то другое.
Ужин я тоже проспала бы, если б не Ольга. Мы спустилась вниз, когда все уже заканчивали. Лоська был тут же, разговаривал с товарищами по бригаде и выглядел относительно нормально. Мне пришлось какое-то время ловить его взгляд, прежде чем он обнаружил мое присутствие в столовой. Секунду-другую мы смотрели друг на друга, потом он кивнул и продолжил разговор со своими ребятами. Что ж, это можно было рассматривать как определенный шаг вперед, но я не собиралась останавливаться на достигнутом. Когда Лоська встал из-за стола, я быстро запихнула в себя несколько ложек каши и двинулась за ним к выходу. Я была уже в нескольких шагах, когда на моем пути вдруг вырос Миронов.
– Романова, на пару слов.
– Коля, не сейчас, ладно?
Я попробовала обойти его, но комиссар стоял насмерть, как при обороне Царицына.
– Это ненадолго, успеешь.
Проклиная его назойливость, я подчинилась. Эти типы всегда хватают тебя за локоть в самый неподходящий момент. Впрочем, для них все моменты неподходящие.
– Ну, что?
На гладкой физиономии Миронова блуждала гаденькая ухмылка.
– Ты ведь с Костыревой дружишь, не так ли?
– Так, дружу. А что, нельзя?
Он ухмыльнулся еще шире.
– Можно, отчего же нельзя. Ты ей, наверно, и советы даешь… – Миронов умильно сложил руки ладошка к ладошке, словно аплодируя. – И правильно: на то и друзья, чтобы советами помогать. Я прав?