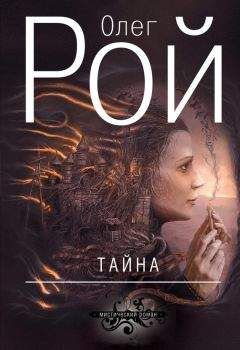– Кого? – тут же спохватилась она. – С чего ты взяла? Что за ерунда? Меряй температуру и спи.
– Ты меня не бойся, – ласково шепнула Оля. – Я никому не скажу. Я за вами давно наблюдаю, не шпионю, это случайно вышло.
Люба резко повернулась, наклонилась к Оле и, приблизив лицо почти вплотную, яростно зашептала, обдавая ее своим дыханием:
– Ты что, белены объелась? Если слухи будешь про меня распускать – убью. И если проболтаешься – убью. И тебя, и себя.
Она не на шутку испугалась, лицо ее побелело, в глазах зажглись лихорадочные огоньки. Она очень испугалась и говорила, не отдавая себе отчета в том, что говорит.
– Никто не узнает, – мягко отстранилась Ольга.
– Если узнают, нам конец. Смотри мне… – все еще волновалась Люба.
– А Серафима-то твоего скоро собираются переводить в другой лагерь, – помолчав, произнесла Ольга, – я хочу предупредить вас…
– С чего ты это взяла? – Люба побледнела. – Откуда ты про это-то знаешь? Он недавно разговаривал с начальником лагеря, тот доволен его работой. Да что ты выдумываешь! Ты врешь!
– Вы мне оба очень нравитесь, хорошие вы… Ты верь мне… Пойми, если его переведут, то не только ему и тебе, но и мне будет хуже. Я не вру. Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Просто верь… Я хочу помочь вам… тем более что у тебя ребенок будет… Слушай меня и ничего не спрашивай. Просто сделай, как скажу… У начальника лагеря в Красноярске сильно болеет сын. Врачи ничего не могут сделать. Пусть Серафим Иванович добьется у него приема и скажет, какой отвар надо принимать сыну и сколько. Я тебе сейчас травы скажу, ты запомни, а лучше запиши… Только быстро надо все сделать, там случай серьезный… Мальчик вот-вот помереть может…
Люба растерянно посмотрела на нее, кивнула и послушно взяла бумагу и карандаш…
В этот же день Волынский добился, чтобы начальник принял его.
В начале апреля Ольга родила дочь.
– Мы запишем младенца мертвым, – украдкой шепнула ей Люба, зайдя в палату.
– Как это? – вскинулась Оля.
– А так. Сверху пришел приказ – забрать у тебя дите. Обычно их в детдом отдают, редко разрешают матерям оставить. Тебе, видишь, не разрешили.
Она нервно затеребила пояс своего халата.
– Да как же это… – обессиленно прохрипела Оля.
– Сейчас ведь особая инструкция действует. Раньше-то детей с матерями оставляли и на два года, и иногда даже на четыре. А теперь, как год исполнится, то сразу в детдом, и весь разговор. А тебе и года не дали. Видать, крепко насолила кому-то. Следят за тобой… Хотя оно, может, и к лучшему, а то недолго и с ума сойти. Детей отбирают, потому что, видите ли, производительность падает и дисциплина расшатывается. Оно и понятно, ведь мамки только о детях и думают. Плохо работают, отвлекаются… А если дите отправить подальше, то первое время, конечно, они на стены лезут… Некоторые и с собой покончить пытаются. Но зато потом работают исправнее, становятся послушнее – какая-то надежда-то все равно остается, мол, когда-нибудь выйдут и отыщут своего ребеночка.
– А как их отбирают? – убито спросила Оля.
– Да подло все делают, даже попрощаться не дают. Мамки ведь воют так, что кровь стынет в жилах, не хотят отдавать. Не в себе становятся. Бывало, на надзирателей бросались, на колючую проволоку… Кому это надо? Ну и проворачивают все по-тихому, чтобы никто нечего не узнал. Чаще всего ночью. Утром мамка проснется – а все уже сделано, дитя нет. В личном деле ставят отметку, но адреса детдома не указывают. Бейся ни бейся, а где твой ребенок – не узнаешь.
– Нет, – сквозь слезы завыла Ольга, – не могу, не отдам, себя убью… Пожалуйста…
– Ко мне тут сестра приехала из Кайеркана, это неподалеку от нас, отдадим девочку ей, – прошептала Люба, не обращая внимания на ее причитания, – запишем ее мертворожденной, а я вынесу девочку из лагеря. Как – это моя забота, придумаю.
– Тебя ведь за это могут расстрелять, – всхлипывая, возразила Оля.
– Ты нам помогла, и мы тебе поможем, – решительно продолжала Люба, – если бы не ты, Серафима бы обязательно перевели в дальний лагерь. Фима и так совсем нервный стал, даже руки на себя наложить хотел, не вынесу, мол, такой жизни, обмана да насилия. Нервный он, хоть и психиатр, а может, поэтому как раз и беспокойный такой… А уж там, в этом лагере, он уже к этому времени жив бы не был, – с ужасом сказала она. – Слушай, ведь мальчик-то в Красноярске выздоровел. И начальник помог нам – оставил Фиму здесь. Моя бы, говорит воля, я бы тебя хоть сейчас на волю отпустил… Вот так. Так что я должница твоя на всю жизнь. И Фима тоже… Он все время твердит об этом…
– Да ладно, – отмахнулась Оля, – а то, что вы надумали сделать – очень опасно… – вздохнула Оля, – пропадете, сгинете оба…
– Да ты что? – рассердилась Люба. – Ты хочешь, чтобы ее в детский дом отправили? Я не навязываюсь… Но времени у тебя думать – пара дней от силы.
– Как пара дней? – опешила Ольга. – Я думала, хоть немного дадут побыть с ней.
– Отец-то ее где? – спросила Люба.
– Далеко отец, – хмуро ответила Оля, – какая теперь разница, где он?
– Как девку-то назовешь? – помолчав, усмехнулась Люба.
По лицу Ольги пробежала тень. Она словно всмотрелась в ведомую ей одной даль. Тяжело вздохнула.
– Не знаю я, свидимся ли мы с ней еще когда-нибудь, не хочу об этом думать, что себя растравливать. А вот отец, может, ее найдет. Пусть будет Оля. Одну Олю он потерял, зато другая у него будет. – На ее лице мелькнула слабая тень вымученной улыбки.
– Ладно… Значит, Оля… В общем, дня через два и отправят. А тебя даже и не пустят к ней. Так хоть всяко под боком будет – рядом, у моей сестры Нади…
И, поглядев Оле в глаза, она быстро вышла.
Через три дня Серафим Иванович Волынский, оформил свидетельство о смерти новорожденной. Люба, рискуя жизнью, тайно вынесла завернутого в ее халат младенца за ворота лагеря в медицинской сумке.
На следующий день ее сестра уехала к себе домой.
– Слушай, я гляжу, как ты ловко управляешься с больными, – как-то сказал Волынский, заходя в палату к Ольге, приходящей в себя после родов, – все выздоравливают как заведенные, некого лечить.
– Ну, уж, вы скажете, – слабо улыбнулась девушка.
– Да-да, – энергично закивал врач, – говорят, мол, Акимова рукой поведет, слова какие-то чудные пошепчет, и зубная боль проходит, кашель исчезает… Хоть и самовнушение, а действует, – хохотнул он, – у тебя просто талант целителя, причем скорее по моей части.
– Да как же людям-то не помочь? Я стараюсь, сколько могу… Они ведь добро помнят.
Оля промолчала о том, как ее мучает тоска о дочке. Может, из-за этого так обострился ее дар. Вся ее нерастраченная любовь словно проявлялась в ее удивительных способностях.
– Давай мы тебя к нам оформим, а? – предложил он. – А то у нас одна санитарка уходит, ее место освобождается. Я похлопочу. Тут, конечно, не курорт, за больными выносить помои, и все такое… Но все же лучше, чем там, харчи погуще и режим посвободнее… И, скажу тебе по секрету, мне самому легче, когда ты рядом. Я такие вещи остро чувствую. Ты и мне выживать помогаешь… Ладно, добьюсь твоего оформления. Договорились?
И, прихрамывая, он зашагал по больничному коридору.
О войне в Лошаках, родной деревне Оли, как и селе, где жил Петя, да и во всей округе, узнали почти сразу же.
22 июня было воскресенье – сельчане спокойно занимались своими домашними делами, о худом никто и не думал. Погода была прекрасной – многие отправились или купаться на речку, или в лес за ягодами.
Поэтому, когда днем приехал запыхавшийся вестовой и выкрикнул услышанное в городе из репродукторов, это прозвучало громом с ясного неба. Страшное известие моментально облетело деревню – уже через час почти все знали: началась война.
В тот же день в областном центре были вскрыты конверты, где хранились мобилизационные планы, заранее заготовленные на случай войны. Заработали областной и несколько районных военкоматов.
Володя сразу же засобирался записываться добровольцем. А вот Василий, наоборот, воевать не хотел…
Оля, протиравшая в палате пол, вдруг швырнула тряпку в ведро и горько заплакала.
– Что случилось, милая? – забеспокоился один из пациентов-заключенных. На воле он был художником, а здесь подносил кирпичи каменщикам, неудачно оступился на обмерзших мостках, упал и сломал ногу.
Она вытерла слезы и спросила:
– Вам подать что-нибудь?
Художник помрачнел.
– Мне ничего не нужно, милая. Я мало что могу, но… Расскажи, почему ты плачешь, – смущенно попросил он, – может, я и не помогу, зато на сердце полегчает… Нельзя в себе горе носить, на то люди и существуют, чтобы с ними делиться.
И хотя Оля не была согласна с ним насчет цели существования людей, но все-таки вытерла руки и присела на край его кровати: