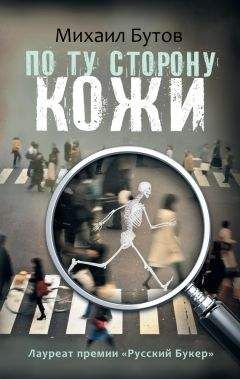Тихвинская икона имелась на прилавках в трех видах. «Серийная» софринская, точный список (репродукция, наклеенная на деревяшку) и изображение в окладе, наклеенное на кусочек текстолита. Софринскую покупать не стали. Жена в очереди стоять устала, и пришлось заменить ее Никитой. На стенке церковного ящика висело объявление с просьбой читать молитвы заранее, а у самого образа не задерживаться. Действительно, люди очередь занимали, чтобы приложиться к иконе и приложить купленные образки. А вход в храм оставался свободным: можно было, обойдя по кругу, мимо алтаря, приблизиться к киоту с другого края и смотреть спокойно, сколько тебе потребуется.
Возле иконы стоял послушник лет четырнадцати с хорошим лицом и протирал белым платком стекло после каждого приложившегося. Вот тут бы надо что-то сказать собственно про икону, как-то описать ее, что ли, но за это я не берусь. Что-то еще возможно в отношении праздничных, многофигурных икон, икон с действием или с дидактическим началом, но говорить о Спасовых или Богородичных иконах вот так, напрямую, описывать их – по-моему, занятие совершенно бессмысленное. И мне всегда казалось, что искусствовед, вынужденный в силу своей задачи вымучивать слова о духовной сосредоточенности или трагическом взгляде Богоматери, как бы провидящей и страшную смерть Сына, и нелегкую долю рода человеческого, или об особой интимности во взаимном положении Богородицы и Младенца, или об испытующем или даже гневном взоре Пантократора, представляет собой жалкую картину. Ведь эти иконографические типы крайне скупы, возможность варьирования предельно ограничена, и для того, чтобы создать здесь, не выходя за рамки канона, все же что-то совершенно особенное, единичное, иконописец должен обращаться к материям, которые так просто в слова не переложишь (что отнюдь не исключает разговора о деталях изображения, технике, стиле, истории икон и главное – об их воздействии на зрителя).
Воцерковленные люди не раз говорили мне, что подобный моему – то ли эстетический, то ли исторический, то ли просто любопытствующий – подход к иконе заключает в себе некоторую греховность. Смысл и ценность иконы совершенно в другом, и недаром бывает, что мироточат даже дешевые типографские списки (или как тут вернее сказать – оттиски?). Спорить я не берусь, хотя вынужден отметить, что пустопорожними мои религиозные знакомые объявляли (правда, вразнобой и в разные времена) почти все вещи, которые мне интересны и без которых мое существование стало бы куда более пустым. Может быть, они и правы, и я всего лишь многое выдумываю себе, тешу не дух, а душу – а подлинное лежит где-то в стороне (или в вышине) и остается для меня недостижимым. Но все же я не согласен признавать иллюзорность ощущения духовного праздника, своего рода невербальной и даже вовсе не рациональной теодицеи, а значит, и оправдания мира и человека, что случается после посещения хорошей иконной выставки, особенно если приходишь туда не совсем затюканным, более-менее открытым. Я к своим сорока годам видел немало икон. При этом сколько-нибудь ценных даже в руках никогда не держал и уж тем более не относился к иконам как к товару, предмету обладания, коллекционирования (если исключить двадцатирублевые образки). У меня дома есть только две хоть сколько-нибудь старые иконы, совсем простые, деревенские, где-нибудь начала двадцатого века, в денежном выражении они не стоят ничего. Зато у них любопытная история.
Мне подарил их мой институтский приятель, милейший толстяк по имени Сережа Лапшин. Он был сыном какого-то довольно крупного начальника, в девятнадцать лет уже раскатывал на отцовской белой «Волге» (но главным образом не по Москве, а на дачу; в институт он на машине не приезжал никогда), при этом мажорского в нем не было вообще ничего, даже тени. Он признавался мне, что больше всего ему нравится что-то делать на земле, копаться в огороде. Вот в этом самом огороде он однажды и отрыл две иконы: обе – Пантократор. Одна ясная, чистая и при латунном окладе, другая – пядница, как сказали бы персонажи Лескова, то есть в человеческую пядь величиной, темная, закопченная, даже обожженная чуть ниже центра огнем лампады или свечи. Он совершенно не представлял, что с ними делать, и принес мне – видно, я ему что-то рассказывал о своем интересе, не помню. А что удивительно (помимо самого факта такой находки: кто-то похоронил эти иконы, как полагается, или прятал до лучшего времени?) – десятилетия в земле не оставили на них вообще никаких следов. Они даже сыростью не пахли, как будет пахнуть любая деревяшка, достаточно долго пролежавшая на воздухе и в тени. Он говорил, они были во что-то завернуты. Вроде в тряпку. Могла тряпка быть чем-нибудь настолько пропитана? Или это было нечто вроде асбестовой ткани (если она способна – не уверен – защищать от влаги) или рубероида? Тогда не догадался спросить.
(NB. А вот версия одного выпускника физтеха и большого любителя средневековья: воск! От свечей, горевших в красном углу. Если тонкая пленка воска отложилась на поверхностях, лучшего консерванта и не придумать. Недаром в меду хранили головы убитых врагов. Но как быть с обратной стороной доски? Вряд ли испаренный воск достаточно летуч и настолько равномерно распределяется в воздухе, чтобы надежно покрыть и обратную сторону.)
Знатоком икон, экспертом я, конечно, не стал. На это нужно жизнь положить. К тому же необходимо, чтобы материал, который ты хочешь изучить досконально, проходил у тебя именно под пальцами, нужно работать с ним, а выставок, простого заинтересованного взгляда тут недостаточно. Но кое-что я об иконах и иконописи знаю: и в богословском, и в историческом, и в искусствоведческом плане – читал книжки (правда, память плохая, и обращаться к книжкам все время приходится заново). И еще я знаю, уже по собственному опыту, что различные иконы способны производить на созерцающего их человека весьма различное воздействие. Бывают иконы, фрески, которые горят, и их горение ощутимо для зрителя, может даже испугать – ведь испугал апостолов Фаворский свет. Другие как бы делятся с тобой совершенно непосредственной радостью от благой вести: Бог есть – и ты потом еще какое-то время не забываешь об этом факте. Другие транслируют радость уже следующего порядка: радость принадлежности к традиции, к христианской культуре – и свободы внутри этой традиции (здесь я особенно люблю своеобразный маньеризм, с восторженной тщательностью выписанные изломанные горки, палаты; или, уже на закате, – переступившие канон головоломные иконы барокко: мир как лабиринт, мир как символическая книга). Есть великие иконы – прежде всего Рублев, конечно, – затягивающие в себя, в свое пространство с неведомым числом измерений. (Я, кстати, отдаю себе отчет, что сейчас говорю вполне в духе того «романтического искусствоведения», которое только что сам и критиковал.) И есть другие великие – они буквально бурят в тебе какие-то полости, ходы, может быть, чтобы духу нашлось где дышать. Вот Тихвинская (даже закрытая окладом) оказалась как раз из последних. И больше мне, в сущности, и сказать-то о ней нечего.
В свою очередь и мы приложились и приложили наши образки. Никита у меня лет с пяти крестится размашисто и святыни лобзает истово, как будто его от младых ногтей усиленно воцерковляли, хотя этого-то как раз никто и не делал. А мне вот на людях до сих пор как-то неловко. Мы еще бродили по монастырю, наблюдали водоплавающих птиц, похожих сразу на кулика, голубя и утку, касались, увлеченные толпой, исцеляющего камня в основании храма и клали рядом монеты. «Организованные» паломники все как один возвращались к своим автобусам с пластмассовыми предметами в руках: при входе на парковку торговали изделиями, видно, местного завода. Жена тоже ходила прицениваться к какому-то тазу, пока мы с Никитой ели у машины хлеб, пили молоко и рассуждали о том (рассуждал, конечно, я, Никита подхихикивал), насколько таз и дух между собой совместимы. К счастью, приобретение не состоялось.
Было уже три часа. Добраться теперь домой мы могли – если все сложится благополучно – только глубокой ночью. Если верить карте, нам нужно было дальше по трассе и у поселка с названием Дыми съезжать на дорогу, ведущую в деревню Бочево. Само Бочево на карте имело довольно скромные размеры. Однако поворот на него обозначал солидный указатель. И это меня обнадежило. До Бочева, судя по всему, мы должны были доехать без труда. А вот дальше… Дальше проходила граница областей: Ленинградской и Новгородской. А именно на таких границах второстепенные дороги имеют свойство плавно переходить в пересеченную местность, потому как обслуживать участок между последними населенными пунктами областей дорожным службам и той и другой стороны просто неохота: соседям надо – пускай они и делают.
Асфальт, обещанный картой по всему пути, тянулся недолго, но сменила его хорошая, плотная и ровная грунтовка. Движение по ней было редкое, нам встретились только два лесовоза, да и те, похоже, следовали не издалека, а вынырнули откуда-то с боковых усов. Чем ближе мы, судя по счетчику, приближались к чаемому Бочеву, тем сильнее грунтовка начинала походить на обычную лесную или полевую дорогу, с травой посередине, без грубых следов тяжелых машин. Еще какое-то время лес чередовался с лугами, и вот деревня Бочево открылась перед нами во всем своем великолепии.