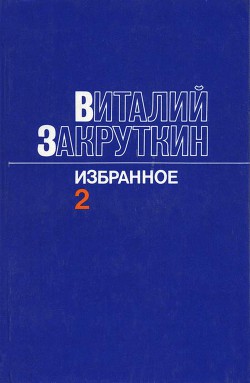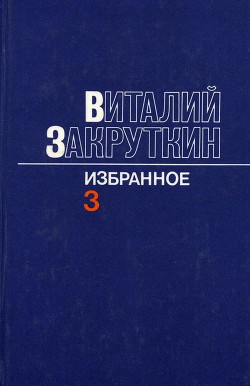Старик обнял костлявыми руками колено, посмотрел на Андрея, закачался на табурете.
— Вот подрастешь немного, познакомься с тем, что пишет Ленин. Не читал? А ты почитай. Сильно пишет, остро, беспощадно. Для него, братец ты мой, путь к счастью людскому ясен, и нет у него ни сомнений, ни колебаний: надо, говорит, идти вперед — и никаких отступлений…
После разговора с Фаддеем Зотовичем Андрей взял в школе книгу Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Весь вечер, уклоняясь от настойчивых расспросов Таи, он читал эту книгу, пытался понять ее, но понял только одно: Ленин зло развенчивает «водолея», «начетчика», «чернильного кули» Каутского, называет его «сикофантом буржуазии» и предателем.
— Что такое сикофант? — спросил Андрей у Марины.
Та подняла голову от тетрадей:
— Не знаю. Откуда ты взял это слово?
— В книжке попалось, — объяснил Андрей.
На следующий день он вернул книгу в библиотеку и решил, что ему рано читать такие серьезные книги. Однако даже это глубоко научное, еще не понятое Андреем произведение Ленина произвело на него незабываемое впечатление. Он подумал: «Фаддей Зотович прав, Ленин знает, куда надо идти…»
Классные занятия Андрей посещал аккуратно, не пропускал ни одного урока. Когда сидевшие с ним на задней парте Павел Юрасов и Гошка Комаров начинали дурачиться, мешали слушать, он незаметными пинками останавливал друзей, а на перемене говорил с досадой:
— Бросьте вы, честное слово! Из-за вас придется переходить на другую парту, ведете себя, как сосунки…
И вместе с тем Андрей умел буйствовать: затевал драки в школьном дворе, задирал девчонок, самозабвенно играл в футбол и не раз, к ужасу Марины и Таи, возвращался домой с разбитым носом или с багровым кровоподтеком на скуле.
Как-то в самый разгар футбольного состязания, когда мокрый от пота Андрей бегал за мячом по двору, его отозвала Клава Комарова.
— Чего тебе? — спросил Андрей, подхватив горсть набухшего, влажного снега и слизывая его с ладони.
— Очень умно! — покачала головой Клава. — Весь потный, а снег лижешь…
— Ты меня не учи! — огрызнулся Андрей. — Говори, зачем звала.
Клавины глаза стали совсем узкими щелками.
— Давай отойдем к дровам, чтобы никто не услышал.
Скрытая от взоров мальчишек высокими штабелями дров, Клава стащила правую рукавичку, слегка коснулась руки Андрея теплой ладонью:
— Приходи сегодня вечером к Любе.
— Зачем? — поднял глаза Андрей.
— У нее девочки соберутся и ребята.
— Какие девочки?
— Еля…
Губы Андрея дрогнули.
— Еля?
— Да.
Андрей ковырнул пальцем белую кору березового бревна.
— Это что ж… Еля просила, чтоб я пришел?
— Еля, конечно. Но не только она.
— Кто же еще?
Клава зажмурилась, засмеялась тихонько:
— Я, например…
— Ты?! — удивился Андрей. — Зачем это я тебе понадобился?
Белая шерстяная рукавичка взметнулась перед щекой Андрея.
— Просто так, ни за чем… Соскучилась по тебе, — промурлыкала Клава.
Перед вечером Андрей стал приводить себя в порядок: сбегал в парикмахерскую, подрезал свой непокорный чуб, намыленной щеткой отмыл жесткие, обветренные руки, начистил кремом и до блеска натер суконкой сапоги. Тая заметила его необычное состояние и спросила хитровато:
— Ты в кабинет природоведения, Андрюша?
— Да, в кабинет, — кивнул Андрей.
— Для кого же ты так наряжаешься? Для лягушек?
— Отстань! — досадливо крикнул Андрей. — Сама ты лягушка!
Из дому он вышел в сумерках. Над крышами вставала оранжевая луна. Еще держался легкий февральский морозец; тонкая корка льда лопалась под ногами, трещала; тяжелый снег оседал, темнел незаметно; от него шел свежий, проникающий в самую грудь запах земли и талой воды. Андрей шел по тропинке вдоль забора, старательно, чтобы не испачкать сапог, обходил стянутые ледком лужи, и на душе у него было легко и радостно. Он подумал было, что это ощущение беззаботной и легкой радости связано с тем, что он увидит Елю, но тотчас же вспомнил сцену в больничном саду и помрачнел.
Чувство ревности Андрей испытывал впервые в жизни. Он не мог понять, что с ним творится, и все больше растравлял себя, в сотый раз представляя, как Еля, размахивая шарфиком, шла по снежной аллее, румяная, оживленная, и рядом с ней высокий юноша Костя Рясный. Представляя все это, Андрей как будто вновь подмечал каждую мелочь: сбитое дятлами крошево древесины на снегу, темную тень забора, розовое мерцание наледи на кривых ветвях старых яблонь. Самое же главное — он снова и снова видел торжественное, живое и светлое выражение на румяном лице Ели, и сейчас оно казалось Андрею самым обидным и оскорбительным. «Когда минувшей весной она говорила там, в лесу, со мной, у нее было совсем другое лицо, — с болью и яростью думал Андрей. — Там у нее не было таких ясных глаз, такой улыбки, там ничего этого не было…»
На секунду Андрею захотелось вернуться, чтобы не видеть Елю, он даже приостановился на перекрестке, но его бросило в жар, и он зашагал еще быстрее. Не видеть Ели, не слышать ее голоса, не говорить с ней он уже не мог, это было выше его сил.
С бьющимся сердцем отворил он окрашенную желтой охрой дверь домика, в котором жили Бутырины, разделся медленно, а когда вошел в Любину комнатушку, то уже не помнил себя.
Опрятная, вся увешанная занавесками, салфеточками, вышивками, крохотная комнатушка была до одурения жарко натоплена. Вокруг накрытого цветастой скатертью стола, у лампы, с картами в руках сидели Виктор Завьялов, Павел Юрасов, Люба Бутырина, Гоша и Клава Комаровы. Еще даже не видя никого, не различая лиц, Андрей в первое же мгновение понял, почувствовал, что Ели в комнате нет. Ели действительно не было.
— Проходи, Андрюшенька, садись! — приветливо сказала Люба.
Андрей оправил ремень, смущенно взъерошил волосы, присел на свободный стул.
— Ну, как там лягушки поживают? — ухмыльнулся Гошка Комаров.
— Лягушки зимой спят, — авторитетно заметила Люба, — и даже такой великий ученый, как Андрей Дмитриевич Ставров, не может их разбудить.
Молчаливый Павел Юрасов, лениво щелкая потертыми картами, подмигнул Андрею:
— Дело не в лягушках, правда? Нас интересует другое: для чего мы рождены на свет и что из этого следует?
— Меня сейчас больше всего интересует кусок хлеба, — неожиданно сказал Виктор Завьялов. — Батьку моего сократили, уже третью неделю безработным ходит. Поехал он в Ржанск, думал устроиться, а там счетоводов — как нерезаных собак, десятками на бирже труда околачиваются.
Толстушка Люба, по-утиному переваливаясь, заходила по комнате, накрыла стол полотенцами, поставила тарелки с медом, с орехами:
— Садитесь, философы, забавляйтесь орешками.
Дружно застучали ложки. Соперничая друг с другом и хвастаясь перед девчонками, ребята стали разбивать грецкие орехи кулаками, давить их ладонью; поднялся шум, хохот.
Облизывая измазанные медом губы, Клава склонила голову к Андрею, зашептала вкрадчиво:
— Андрюша, за печкой стоит сундучок, иди посиди там, я сейчас тоже приду и скажу тебе что-то…
В отгороженном занавеской уголке за печкой было неимоверно душно. Андрей присел на сундучок, расстегнул ворот сорочки, подумал с недоумением: «Что Клавке нужно, не понимаю! Она ведь говорила, что придет Еля, а теперь путает, вертит хвостом».
Над занавеской, в противоположном углу комнаты, неярко синел огонек лампады, освещая украшенную серебром икону, вышитое полотенце, резное блюдо на стене. Выше, на потолке, смутно обозначался синеватый по краям круг. «Дьякон сам молится и дочку приучает к молитвам, а она в комсомол поступать хочет», — усмехнулся Андрей. Он поднялся с сундука и хотел уйти, но Клава загородила ему дорогу:
— Подожди немного, какой непоседливый!
Она легонько подтолкнула его в угол и, сдавив плечо, опять усадила на сундук. Поправляя волосы, охорашиваясь, присела с ним рядом.
— Что ж ты молчишь? — испытывая неловкость, спросил Андрей.