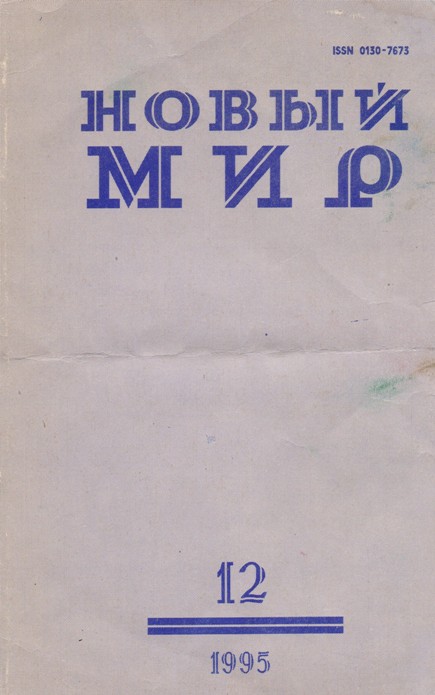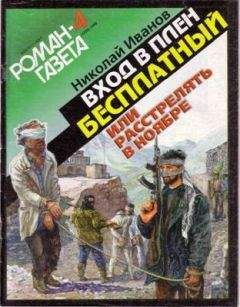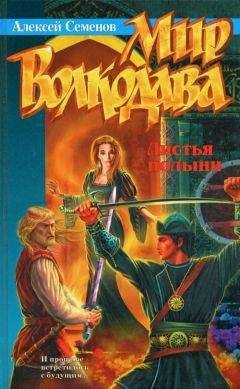АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
*
ПОГОДА В НОЯБРЕ
Рассказ
Не успели деревья сбросить последние листья, как посыпался мокрым крошевом снег. Ветки слиплись, отяжелели, листья свисали с них сырым затхлым мотьем, грозя остаться так на всю зиму. Лужи, успевшие за ночь покрыться корочкой льда, днем превращались в звенящую под ногами шугу.
Я не вылезал из постели с самого утра, чувствуя, что простыл; нос так заложен, точно его не было, — приходилось дышать ртом, чего я не любил.
Надев шерстяные носки и закутавшись в большой вязаный пуловер, покашливая, я прошел на кухню. Включил газ, прикурил от огня и сел спиной к теплу, стараясь не поддаваться донимающему кашлю. Несмотря на простуду, я все-таки приоткрыл запотевшее от чайника окно и в щель внимательно наблюдал со второго этажа, что происходит на улице.
А там был пар. Пар от канализационных люков; от асфальта, который блестел подобно черной спине кита там, где под ним залегли трубы водопровода; пар шел изо рта проходящих людей; собаки лаяли и цапали зубами свой же пар; кошка выпускала из розовой пасти матовый клубочек, и даже вороны, прохаживаясь у помойки, оставляли бледный след, или это мне только казалось; машины, выхлопывая ленивый сизый дым, примешивали свой едкий запах к запаху отбросов, дымящегося асфальта, мокрых животных.
У прохожего запотели очки; зажав портфель коленками, он снял их, протер пальцами и зачем-то дыхнул, отчего стекла вновь покрылись испариной; он протер их опять, надел, взял портфель, однако не прошел и двух шагов, как остановился; чему-то неловко улыбнувшись, полез за пазуху, дернул что-то, видимо платок, — полетели бумажки, посыпалась мелочь… Лицо его исказилось и приняло злобное и одновременно общительное выражение, будто бы искал виноватого; сейчас он точно проснулся и подключил всю свою волю, чтобы устранить неудобство. После изнурительной работы мысли — а я, кажется, даже слышу, как вращаются шестеренки в его голове, как лязгают какие-то рычаги, — он кладет очки во внешний карман пальто, пересыпает из левой руки в правую мелочь, прячет деньги куда-то вовнутрь и только затем приступает к вытиранию линз платком, и делает это с усилием, даже остервенением. Но вот свежепротертые очки на лице, и, победно исказив рот, прохожий трогается в путь.
Выбрасываю, погасив, окурок и захлопываю окно. На улице похолодало, и пару прибавилось: стало вообще как в бане, а гарью-то несет! как на пожаре! Добравшись до постели, я лег на спину, положил над пазухами носа мешочки с разогретой солью, вытянулся, запрокинув голову и проклиная насморк, и тут — телефон. Ругаясь последними словами, подхожу.
Звонила Сашкина мама: оказывается, он лежит — или сидит? — в психушке на улице Бехтерева, с истощением нервной системы. Я начал одеваться.
Познакомились мы давно. Еще только начинал строиться Театр-студия на Усачевке. Несмотря на необустроенность, на то, что зачастую не было даже сидений в зале, спектакли все равно шли.
Однажды перед началом я пошел за кулисы — кажется, за какой-то бутафорской саблей. В проходе горела всего одна лампочка, и я наткнулся на нечто свисавшее — свисал здоровенный кожаный башмак с подковками на толстой подошве, — я дернул за него. Куча тряпья зашевелилась, из-за свернутого рулоном, пропахшего кошками половика показался клочкастый ежик волос, заспанное лицо приблизилось к лампе — та качнулась, беспокойно залетала пыль, — лицо чихнуло. Тряпки раздвинулись — заблестели пуговицы кавалерийской шинели.
— Что же вы ноги разбрасываете? — вглядывался я в незнакомца.
— Виноват: заснул, — извинился Сашка: это был он.
Теперь, когда лицо приблизилось, я смог рассмотреть его как следует: низкий лоб, глубоко, близко посаженные голубые, почти белесые глаза; прямой острый нос, широкие обветренные скулы, несокрушимая нижняя челюсть, выдающийся подбородок с завершающей его шишкой, а в ней глубокая ямочка — как он ее пробривает-то по утрам? Сашка широченно зевнул, обнажив белейшие крепкие зубы, закутался потеплее в шинель и уткнулся лбом в кирпичную стену. Честно говоря, первое впечатление было неприязненное.
Итак, жил Сашка в общежитии, где тоскливо пахло борщом, где из окна его подчердачной кельи виднелась изумительная по тоскливой своей достоверности картина: железнодорожные пути, складские помещения, задворки вокзала; кучи ржавеющего металла, запыленные люди в черной рабочей одежде, стрелочники, машинисты; и вдруг — дико! — рядом с невзрачной конторой, где работают девушки с грустными глазами, которые по вечерам несут в сетках протекающие пакеты молока, вдруг неизвестно откуда — пихта! и конечно же — кумачовый плакат и тут же гипсовая, крашенная золотым, статуя… Уродство это было так законченно, чуть ли не совершенно, что сердце мое ныло ностальгической болью, словно я принадлежу этому миру и насильно оторван от него, — и я готов был предложить руку и сердце любой грустной девушке с кефиром, взять ее под свою защиту и нарожать с ней кучу детей. Вот идет одна — и я высовываюсь из окна, идет она с авоськой, наверное, домой. Девушка заворачивает за угол, и пусть я уже не вижу ее, однако не упускаю. Что там? За углом? Дома, улица, девушка; она купит себе бессмертники. Улица и дома словно намалеваны дегтем; желтоватое небо сгущается к горизонту и рыжим мохнатым брюхом нависает над табачными крышами. Девушка с кефиром войдет в продуктовый магазин, отстоит очередь, уткнувшись в чьи-то мокрые драповые плечи, купит сыр. У себя, в неосвещенной комнате, она разденется — в неразборчивом зеркале отразится бледная неразвитая грудь, короткая стрижка, угловатое, как у мальчика, тело. После сядет на подоконник, упершись пятками в батарею, нальет кефиру в стакан, наверняка забудет вытереть кефирные усы, направится к постели, приостановится, обернется, чуть задержится взглядом на какой-то полузабытой смешной игрушке. Она поставит цветы у изголовья и ляжет в ломкую постель, и эта ночь не приблизит ее к старости…
Я спохватываюсь и возвращаюсь — обратно, через свое окно. Сашка сидит на койке; в руках у него объемистая “Божественная комедия” с иллюстрациями Доре.
Как-то были мы с ним на итальянской выставке в Пушкинском музее. Было там ветхое полотно Тициана: все темное, сплошные тени, различимы лишь синюшно-белая колоннада и две фигуры: одна — в пурпурной, шелковой, судя по отблеску, мантии, клубами развевающейся по ветру, с вьющимися медными волосами, другая — тоже с кудрями, но с черномаслеными завитками, в шелковой же, но зеленой мантии. Картина называлась “Нисшествие ангела”. Кто из них — ангел, я так и не смог сообразить. Сашка спросил — я пожал плечами. Мы стояли, всматриваясь, до тех пор, пока нас не оттеснила группа экскурсантов, предводительствовал которой седенький старичок, бородка клинышком, очочки в серебряной оправе, глаз — хитрый; стал он рассказывать и, между прочим, показал