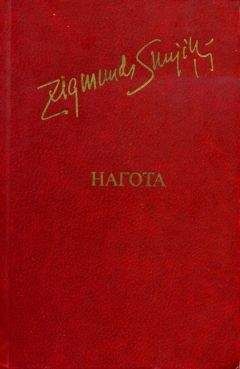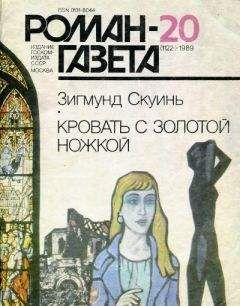В патрульной машине, как всегда, сидел Холоднопьянов. Заметив Гунара, помахал ему рукой. Обменялись дружескими улыбками. Их первая встреча вскоре после переезда на новую квартиру носила несколько драматический характер. Гунар собирался въехать во двор, когда между ним и трамваем, будто с неба свалившись, оказался мальчуган. Гунар резко крутанул к тротуару и задел крыло милицейских «Жигулей». Одному лишь богу известно, чем бы все кончилось, не вмешайся в это дело Ася. Ты не виноват, позволь мне самой все уладить. Два дня спустя ему вернули «права».
Витаут по-прежнему жил на той же самой улице, в том же самом доме, где и в ту пору, когда они учились в школе. Это обстоятельство всякий раз потрясало Гунара своей невероятностью, заодно пробуждая в нем и щемящую ностальгию. Чего только не произошло за это время в мире! Кого только не перевидели, не пережили! А Витаут обитал там же, где и раньше. Рядом с пивоваренным заводом.
Латынь им преподавал Блиньев, бывший офицер царской армии. «Никто из вас ничего не знает, — говорил он. — С большой натяжкой ставлю вам три с минусом. А сейчас пойдет к доске Витаут Бутрим. Послушайте, как следует отвечать урок». У Витаута была феноменальная память, в классе ему дали кличку Факир. Что же касается занятий и зубрежки, это Витауту было не по нутру, как, впрочем, и Гунару.
Всем было ясно, что фрицы в Риге долго не продержатся. Чтобы увильнуть от призыва, они бросили школу и пристроились к автоколонне дальних перевозок. Зигридочке в ту пору было не более пятнадцати, но она считалась законной невестой Витаута. Безо всяких там акселераций. Все из-за той же Зигридочки Витауту пришлось слопать однажды три стеариновые свечи. Это когда, проснувшись в постели Зигридочки что-то около полудня, он вспомнил, что увольнение его закончилось еще в полночь. Ему повезло, желтуха не заставила себя долго ждать.
После того как прогнали фрицев, Витаут стал допризывником и ежедневно должен был являться в военный комиссариат на занятия. А Гунар в то время глотнул пороха, когда добивали немцев в Курляндском котле. Оттуда их авточасть перебросили в Донбасс, так что встретились они годика через три. Стянув кирзовые сапоги, Гунар пустился во все тяжкие: наверстывать упущенные прелести мирной жизни. Что ж, опять садиться за школьную парту рядом с желторотыми юнцами? Одна мысль о том, что снова придется собирать в портфель учебники, зубрить алгебру, после всего пережитого показалась просто смешной. Да и что это даст? Ну, получит он право еще пять лет протирать штаны в институте, перебиваясь на стипендию. Так он тогда рассудил.
У Витаута первые послевоенные годы выдались бурными. Зигридочка оказалась в положении, пришлось наскоро сыграть свадьбу. В ту пору в Риге возникло множество танцевальных оркестров. В поте лица наяривали Гольдштейн и Альфио, Кремер и Кестерис, Черный Андрей и Тобис. И Витаут собрал свою капеллу, устраивал танцевальные вечера, сам выступал ударником. И теперь Витаут порой вздохнет с грустью — расчудесные бывали дни и ночи! Зигридочка обычно на это возражала: тошно вспоминать, тогда ты и пристрастился к водке.
Вернувшись в Ригу, Гунар обнаружил, что Витаут в самом деле изменился. Впрочем, кто ж из них не изменился? После естественной кончины музыкального бизнеса Витаут нашел новое применение своей предприимчивости. Из разноцветной пряжи он взялся ткать женские платки. Тогда как раз входили в моду клетчатые платки. Деньги потекли рекой. Зигридочка растила дочку, училась в вечерней школе и день ото дня хорошела.
— Нас из квартиры выселят как тунеядцев, паразитов, — сокрушалась Зигридочка. — Вчера домоуправ интересовался, с каких капиталов мы живем.
— На бабушкину пенсию! Вот чудеса!
— Постеснялся бы, люди смеются. Солвиточка скоро в школу пойдет, учительница спросит: кем твой папа работает? Хочешь, чтобы дочь со стыда сквозь землю провалилась? Платки он, видите ли, ткет!
— Она ответит: мой папа мастер, занимается художественным промыслом.
— Не мужское это занятие.
— У тебя старомодные взгляды.
Случалось и наоборот: недовольство выражал Витаут,
— Почему тут со мной никто не считается! — гремел Витаут.
— Не считается? С тобой-то? — удивлялась Зигридочка. — Да ты у нас в семье заместо бога.
— Вот-вот, — с деланным смирением Витаут переводил взгляд на Гунара, чувство юмора ему никогда не изменяло, что правда, то правда, — о том и говорю: с богом нынче не очень-то считаются.
Закончив среднюю школу, Зигридочка, должно быть в отместку Витауту, поступила на стеклофабрику. Научилась шлифовать и гранить хрусталь. А в один из своих загулов Витаут у Видземского рынка попал под трамвай, отделавшись, правда, потерей большого пальца на одной ноге. Можно считать, ему повезло. Но в этом везенье или невезенье таилось серьезное предупреждение, и, отлеживаясь в больнице, Витаут, надо полагать, призадумался. Гунар тогда на конторской машине перевозил его из больницы домой. Слегка прихрамывая, Витаут подошел к машине, бросил палку на сиденье, одернул пропахший лекарствами пиджак и только тогда заговорил:
— Знаешь, что сказал судьям разбойник с большой дороги Каупенс, выслушав свой смертный приговор? «Господа, не надо принимать все это близко к сердцу, нет такой компании, которая рано или поздно не расстроилась бы...»
— Уж не намерен ли ты произнести прощальное слово?
— Да, прощание наступило. С водкой. Я свое выпил. Точка.
Гунар продолжал жизнь на колесах. Бригада по ремонту и монтажу высотных объектов работала на территории всей Латвии. Восстанавливала поврежденные в войну заводские трубы. Собирала тригонометрические вышки, поднимала столбы высоковольтных линий. Он всем заправлял — учитывал сделанную работу и доставлял зарплату, развозил людей и подыскивал жилье для бригады. Хорошо, если раз в неделю появлялся в Риге. Иногда чувствовал усталость (вернее, сонливость). Зато на скуку не жаловался никогда. И никто им не понукал. Сам себе хозяин и приказчик. Да еще с машиной! Американский «додж», два моста ведущих, десять скоростей, прет, как зверь. Куда бы ни залез, сам и вылезет.
Тогда же он и влюбился. Прежде с ним такого не бывало. Нынче много говорят и пишут о случайных связях, сексуальной совместимости. Но крайне редко вспоминают о влюбленности. Этой совершенно бесконтрольной одержимости, которая одного человека привязывает к другому.
Был он не так уж и молод. Пережил достаточно увлечений и связей. Но то было совсем другое. Ария нужна была ему постоянно. И когда они бывали вместе, и когда их разделяло расстояние. Ему нужен был звук ее голоса, нужно было ее молчание. Ее доступность, ее тайна. Это был ненасытный голод. В дождь и в слякоть гнал он свой «додж» за сотню километров, чтобы немного побыть с ней. Хотя бы постоять в комнате, где Ария покручивала свой арифмометр.
— Гунар, у меня нет ни минуты времени, пойми, начальник ждет документацию, к вечеру должна быть готова.
— Хорошо, я приеду завтра.
Забывая обо всем, он рвался к ней: посмотрит на часы и убежит с собрания, из столовой, не доев тарелку супа или начатый бутерброд. Он был переполнен Арией, как кипящий котел пузырями. Смысл жизни упростился до крайности. Быть с Арией — счастье, предел мечтаний. Быть вдалеке от Арии — беда и трагедия. Так продолжалось примерно два года.
Родители Арии жизнь свою прожили в ужасающей бедности, теперь они мечтали об одном: чтобы судьба возместила их дочери то, в чем самих обошла. Появление на горизонте Гунара никак не вписывалось в родительские планы касательно будущего их дочери. Неотесанный шоферюга! С ума сойти! Чего тут ждать хорошего! Для своей единственной дочери они желали самого лучшего. Были более чем уверены, что Арию ждет нечто совершенно ужасное. При встречах смотрели на Гунара с молчаливым укором. Нет, лично против Гунара — как человека — они ничего не имели. Боже упаси. Если бы он только не затягивал их Арию в омут. Или хотя бы поступил учиться.
В том, что родители раз десять на дню увещевали Арию, в этом не могло быть никаких сомнений. На первых порах она еще крепилась. Да только мать глаза все выплакала, отец то и дело охал, за сердце хватался. Потом и Ария захандрила. В родительских доводах было немало такого, с чем трудно не согласиться. К тому же родители есть родители.
В последний раз они виделись в сырой и слякотный весенний день. Долго кружили по улицам. Снег падал хлопьями, как пена стирального порошка. Казалось, в городе идет большая чистка. Раза три обойдя парк Кронвальда, они мимо Театра драмы вышли к Бирже. На голую, мокрую, пахнущую весной булыжную площадь. Ветер сорвал у него с головы картуз, растрепал волосы. Больше он ничего не видел. В глаза ударило солнце. Ослепительный свет. Все засверкало. Ветер, голубое небо, мокрый булыжник, белый снег.