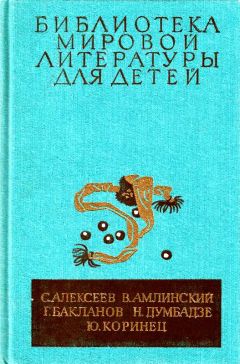— А, тетя?
— Налей воды!
Я налил.
— Скажи, тетя!
Тетя стала месить тесто.
— Пусть, говорит, Сосойя снимет с огня кеци!
Я выполнил поручение.
— А еще что?
— Пусть, говорит, Сосойя выстелит кеци листьями.
Я выполнил и это поручение. Тетя положила тесто на раскаленный кеци. Тесто зашипело. Я проглотил слюну.
— А еще что?
— Еще? Не смей, говорит, кормить этим мчади бессовестного Сосойю!
Тетя накрыла кеци куском жести и посыпала горячей золой.
— А ты что ей сказала?
— Сказала, что не посмею!
— А что она сказала?
— Если, говорит, Сосойя не заткнется, сунь ему в рот горячую головешку! — и тетя поднесла к моему носу головню.
Я заткнулся.
Трудно, очень трудно голодному мальчику сидеть у очага и ждать, пока выпечется мчади! Как медленно тянется время! А под ложечкой сосет, ох как сосет… Рот наполняется слюной, не успеваешь глотать ее!.. Я не в силах больше сдерживать себя. Я приподнимаю кусок жести. Из-под нее вырывается горячий, ароматный пар.
— Не лезь, Сосойя! Тесто еще сырое! — прикрикнула на меня тетя.
— Ну и что? Свиней и индюшек специально кормят сырым тестом! — оправдывался я.
— Мчади не только для тебя! Уйди, говорю!
Я пересел. И опять потянулись невыносимые минуты. Чаша терпения переполнилась. Не устояв перед соблазном, тетя сама приподняла жесть.
— Рано еще, тетя! — сказал я.
— Слава богу, готово! — проговорила тетя и вынула из кепи полусырой мчади.
Я приволок низкий столик. Тетя сбросила на столик дымящийся мчади, достала из банки последнюю головку сыра. Я принес бутылку вина, солонку с солью, несколько головок лука-порея и сел. Тетя разломила мчади пополам, потом одну половинку — еще на две части.
— Ну ешь, бездельник!
Я схватил свою порцию мчади и уже впился было в него зубами, как во дворе раздался чей-то робкий кашель.
Я и тетя обернулись к распахнутой двери.
Во дворе стоял и искательно улыбался худой, гладковы-бритый, голубоглазый немец в зеленом вылинявшем форменном кителе и огромных чувяках.
— Немец, плен! — произнес он на ломаном русском языке.
Я вспомнил: ребята говорили, что в район на стройку пригнали двести немецких военнопленных. Люди со всех окрестных сел толпами валили поглядеть на диковинку — живых немцев. Для меня же это был первый «настоящий» немец, увиденный в жизни. Почему-то я встал. Встала и тетя.
— Гутен морген! — сказал немец и вежливо поклонился.
— Это военнопленный! — сказала тетя и невольно поправила волосы.
— Гутен морген! — повторил немец и еще раз поклонился.
— Гутен морген! — ответил я.
— Что ему нужно, Сосойя? — спросила растерявшаяся тетя.
— Не знаю. Пока что он только желает нам доброго утра… Чего тебе, фриц? — помахал я рукой.
— Гитлер капут! — выпалил немец, сложил правую ладонь наподобие револьвера и приставил к виску указательный палец.
— Это нам известно, газеты читаем. Ты скажи, что тебе нужно?
— Не понимай! — немец пожал плечами.
— Что нужно? — спросил теперь я по-русски.
— Иоган… Их бин Иоган! — немец несколько раз ткнул рукой себя в грудь.
— Чего он привязался? — повернулся я к тете.
— А я почем знаю… — развела она руками.
— Хенде хох! — вспомнил я уроки военного дела.
Немец испуганно взглянул на меня и поднял руки.
— Гитлер капут! — добавил я.
— Гитлер капут! — тотчас же подтвердил он, не опуская РУК.
Я не знал, как по-немецки звучит команда «отставить», поэтому подошел к немцу и почти насилу заставил его опустить руки вниз.
— Что ты хочешь, что? — повторил я вопрос.
— Хлеб… — произнес тихо немец.
— A-а, хлеб? Белый или черный?
— Не понимай…
— С маслом или сыром?
— Хлеб… Бутер…
— Ага, бутерброд, значит?
— О, бутерброд! — обрадовался немец.
— А как насчет хачапури? — улыбнулся я.
— Немец, плен! — улыбнулся немец.
— Подвело животы, сволочи? Иди к своему Гитлеру, пусть он угостит тебя!
— Гитлер капут! — сказал немец безнадежно.
— Неужели?! Вот огорчил меня! — покачал я головой.
Немец почувствовал иронию в моих словах и теперь обратился к тете:
— Хлеб, фрау, хлеб…
Губы у немца задрожали. Я проследовал за его взглядом и увидел, что он устремлен к нашему накрытому столику.
— С ума он сошел! Еще чего не хватало! Хлеба ему подавай! — сказал я тете. Она стояла побледневшая и молчала. Вдруг тетя повернулась, бросилась на кухню, схватила свой кусок мчади и подала его немцу.
— О, данке шён, фрау, данке зеер! — Немец дрожащими руками принял мчади и стал за обе щеки уплетать его. С минуту тетя смотрела на жадно евшего немца, потом снова вернулась на кухню, вынесла весь оставшийся мчади и отдала ему.
— Тетя, ты с ума сошла?! — схватил я ее за руки.
— Отстань, Сосойя! — Тетя отстранила меня и опять побежала на кухню. Немец с недоумением смотрел на нас.
— На, немец, на! На тебе сыр, на тебе вино! Бери! — Тетя сунула в руки немцу весь наш обед и вдруг расхохоталась.
— Тетя! — испугался я.
— Молчи, Сосойя, молчи! Пусть берет все! Пусть! Что еще тебе, немец? Скажи, что еще дать тебе? — выговаривала тетя сквозь смех.
— Папирос, фрау… — расцвел немец.
— Дай ему табак, Сосойя!
— Нет у меня табака!
— Есть! Полный карман!
— Нету! — заупрямился я.
— Отдай сейчас же! — Тетя засунула руку в мой карман и протянула немцу полную пригоршню табака. — На, бери! Бери!
Руки у немца были заняты, поэтому тетя сама насыпала ему в карман мой табак, потом легонько подтолкнула его и сказала с улыбкой:
— Иди теперь, немец, иди!
— О, фрау, данке зеер, данке шён!
— Иди, иди, немец!
Я смотрел, вытаращив глаза, на смеявшуюся тетю и не мог понять, что с ней происходит.
— Данке, фрау! — еще раз поблагодарил немец и стал пятиться к калитке.
— Не за что!
Тетя обняла меня, крепко прижала к груди и вдруг разрыдалась. Перепуганный немец поспешно вышел со двора.
— Что с тобой, тетя? Почему ты плачешь? — спросил я еще более испуганно.
— Ничего, Сосойя, ничего! Посмотри на него! — и она показала на удалявшегося немца.
— Ну и что?
Тетя опять заплакала, потом засмеялась, снова заплакала.
— Видишь? Видишь, Сосойя? Видишь?!
Каждый, кто взглянул бы сейчас на тетю, принял бы ее за сумасшедшую. Но мне никогда еще не приходилось видеть на лице моей тети столько радости и счастья!
* * *Ночь. Я лежу в своей постели и мечтаю о приятном сне. Я люблю сны; спящий человек, не видящий снов, все равно что покойник. Я считаю так: днем, когда мы ходим, разговариваем, спорим, — мы живем. Ночью, когда мы спим и не чувствуем ничего, — мы мертвы. Следовательно, тот, кто не видит снов, половину своей жизни проводит зря, в состоянии покойника. Я же все свои шестнадцать лет прожил сполна, потому что, за редким исключением, каждую ночь вижу сны. Во сне, как и днем, я хожу, разговариваю, смеюсь, плачу. Во сне, как и днем, мне бывает холодно и жарко, весело и скучно, радостно и грустно. Вот потому и хочется мне увидеть приятный, хороший сон. Я каждый раз перед сном разговариваю с тетей для того, чтобы продолжить этот разговор во сне. Тетя никогда не делится со мной своими мыслями до конца, а во сне она всегда откровенна, во сне она ласкает, целует, наставляет меня, говорит, что нет у нее на свете никого дороже меня… Вот и сейчас мне хочется поговорить с тетей, но что-то сдерживает меня. После сегодняшнего события я растерян, смущен. Потому и лежу я молча и мечтаю о приятном сне…
— Сосойя!
— Да, тетя?
— Спишь?
— Нет, тетя, какой там сон!
— Видел того немца?
— Лучше бы мне не видеть проклятого! — проворчал я, и опять под ложечкой у меня засосало.
— Конец войне, Сосойя, конец! — Тетя присела в постели.
— Кто это сказал?!
— Конец войне, Сосойя!.. Раз мы дожили до того дня, когда немецкий солдат пришел к нам и попросил кусок хлеба, — значит, войне конец! Неужели ты не понимаешь этого?
Я не ответил.
— Ты не обижайся на меня, Сосойя… Я была готова отдать ему весь дом, не то что мчади…
— Я тоже, тетя…
— Прости меня, Сосойя…
— Что ты, тетя!
— Подумай, Сосойя, что это значит! Немецкий солдат попросил у нас хлеба!
— Да, тетя!
Тетя помолчала, потом очень ласково спросила:
— Сосойя, ты голоден?
— Нет, тетя, ничуть! Мне совсем не хочется есть!
— И мне тоже…
— Ну тогда заснем, тетя…
И в комнате воцарилось долгое молчание…
…Сон не шел… Пропели первые петухи… Я встал, подкрался к тетиной кровати. Она спала и улыбалась во сне. Тете снился приятный сон.