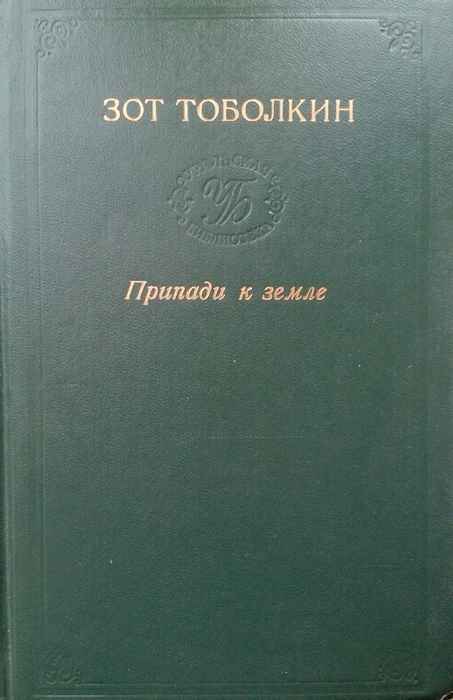боясь своего шёпота, с присвистом выдохнул Науменко.
Прямо из горлышка выпив всю водку, начал торопливо одеваться.
- Не бойся, – презрительно усмехнулась Мария. – Никому не скажу...
- Я сам скажу! – бессвязно бормотал Науменко, не попадая в рукава полушубка. – Прямо сейчас поеду и всё расскажу. Не хочу прятаться! Надоело всё! Сколько можно...
- Опомнись! Куда ты среди ночи! – пыталась удержать Мария. – Себя погубишь – и только...
Он выскользнул из полушубка и, раздетый выскочил на улицу.
Минуя конюховку, через пригон забежал в конюшню.
Было тихо. Изредка всхрапывали жеребые кобылицы. Похрустывали овсом жеребцы. Накинув на Воронка недоуздок, Науменко вывел его из стойла.
- Куда собрался? – спускаясь с сеновала, угрюмо окрикнула Афанасея.
Науменко неясно промычал что-то и торкнулся плечом в ворота.
- Оглох, что ли? Коня зачем берёшь? Днём успеешь угробить.
- Пусти!
- Не держу, только Воронка оставь.
- В район поеду.
- В полночь? Ждут тебя там, – усмехнулась женщина и, обняв Науменко сзади, подтолкнула: – Иди, проспись!
Он обмяк, без сопротивления отдал повод.
- Опять куролесишь? – не двигаясь, с неожиданной мягкостью проговорила Афанасея. – Раздетый весь... Небось, от бабы убежал? Ну да, от кого ишо бегают в такое время. Ладно, хоть не в подштанниках. Шубёнку мою накинь!
Снимая шубу, нечаянно коснулась грудью его локтя, ожглась, закусила губы. Обнесло. Так после качелей бывает. Раскачают парни, потом крутанут за верёвки, и они веретеном кружатся. Земля колышется, в глазах пёстро, лица путаются, сливаются в одно.
- Чего застыл? Сказано: уходи! – раздвинула прикушенные губы Афанасея.
Когда заглохли его шаги, охнула и, обняв мерцающую в полусвете тёплую шею коня, уткнулась в неё, сотрясаясь мощным, тоскующим телом.
Науменко бесцельно брёл по сонной улице. Вот уж и кончилась она. А он всё шёл, шёл... Когда пообочь дороги удивлённо шумнул бор, повернул назад.
«Куда я теперь? – стучал изнутри двухголовый дятел. На каждый висок по клюву. Тук-тук-тук... Подумалось: – Как череп проклюнет, тут и конец. Э, сбывайся! Всё равно это не жизнь – пытка... Ух, как черно вокруг!»
В доме горел свет. Печальная тень Марии мелькала в окнах.
«Не жди! – с озлоблением подумал Науменко. – Не приду...»
Свернув к освещённому сельсовету, без стука вошёл.
Сазонов читал, напялив на нос тесные очки, которые при появлении Науменко поспешно сдёрнул и сунул в стол.
- Стихи вот читаю, – пробормотал он, прикрыв книгу. – Мыслей в них – прорва! Есть прямо мои мысли. Их, оказывается, за тысячи лет до нас высказывали:
Усталость – ложь. Я жить не устаю. Всё в мире – жизнь. А жизнь – всегда дитя. Оно ручонкой бьёт по хрусталю, И чаша разбивается шутя...
- Удиви-ительная штука! Если с умом читать – на всё ответ сыщешь. Только неспокойно после этого. И обидно... Мы узнаём, а это ещё до нас знали... Забавно, а?
Науменко не ответил.
- Не спится?
- Поговорить надо.
- Приспичило?
- Дальше некуда. Ты вот очки носишь. Хоть бы раз через них присмотрелся. Что, мол, ты за человек, Науменко?
- Я и так вижу, – улыбнулся Сазонов. – В главном – наш человек. Конечно, не без вывихов... Так они у всякого есть.
- Смотря какие вывихи... Пью я... Знаешь от чего?
- Знаю. От несоответствия дел мыслям.
- Мудрёно говоришь.
- Что ж тут мудрёного? – пожал плечами Сазонов. – Думаете сделать так, а получается иначе. Вот и ломает вас совесть. Значит, чуткая она, отзывчивая...
- А тебя не ломает?
Сазонов, словно не слыша вопроса, открыл ящик стола и, достав из него дощечку с лобзиком, начал старательно выпиливать что-то.
- Боишься ты один на один говорить! – упрекнул Науменко.
- Вы сперва сами в себе разберитесь, – скрипя пилкой, отвечал Сазонов. – А потом поговорим. Когда в голове путаница – человек не знает, чего он хочет. И тут уж ничем не поможешь, сколько не старайся. А вы, как я понял, помощи хотите...
- Ничего я не хочу от тебя. И говорить больше не стану! Ты не только меня, ты себя боишься! Мешком из-за угла стукнутый...
Сазонов отложил лобзик, стряхнул с коленей пыль и опилки.
- Засиделись мы, – сухо сказал он. – Скоро утро...
Глава 9
Угрюм, ох угрюм Илья! И сколь себя помнит, весёлым не бывал. По пальцам можно пересчитать дни, в которые улыбался. А хотелось улыбаться, радоваться хотелось, если радость накатывала. Да полно, было ли такое! Может, от скуки чудак какой-нибудь, вроде Евтропия, про радость байку сочинил? Если и есть она на земле, радость, то ходит не по той дороге, которую топчут кривые ноги Ильи.
Большой рот его с двойным рядом зубов, заготовленных на двух едоков, приоткрыт в вечной страшновато-недоумённой гримасе. Над низким шишкастым лбом – грязно-седые космы. Калмыковатые глаза неподвижны и оживают лишь при виде доброго коня.
И ноги бубликом, и страсть к лошадям – отцово благословение... От матери-казашки досталась покорность судьбе и полурусское обличье. И ещё умение плодить детей.
Не сумев разродиться последним, жена, тихая, покорная бабочка, скончалась, оставив Илье трёх.
Надо бабу в дом принять, но кто пойдёт к многодетному! Фёклу пригласил – она переночевала, а утром высказалась: «По силе ты – вроде мужик, а запах козлиный. Хоть бы в бане его отпарил... Сам запаршивел и детей довёл...». Стукнуть бы её за это, но ведь и то верно, что детей запустил. Всё сам: шей, стирай и мой – а их трое. Тут ещё здоровье подшаливать стало.
Молодым был – коня себе присматривал. Приглядел у Мартына Панкратова жеребёнка, но попался. Смертным боем бил его Панкратов. Вот и сказываются теперь те побои.