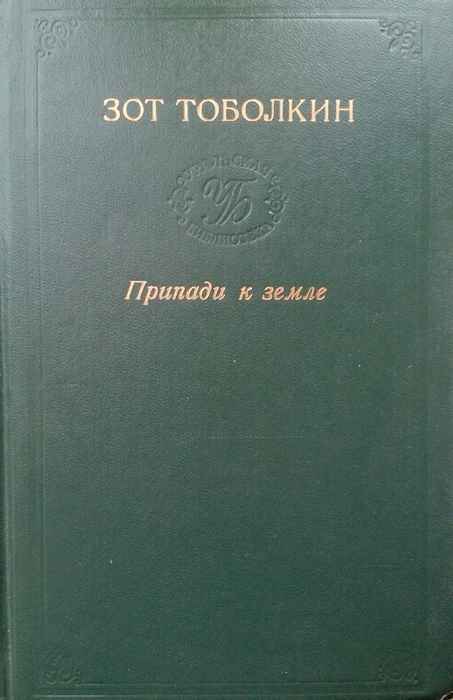ему и покойно, и ясно, словно беседовал после долгой разлуки со старым отцом своим.
- Нонешние-то по привычке лбами колотят, – приглушив распыхтевшийся самовар, говорил о единоверцах дед Семён. – Гордей вон уж на что лют был в вере, а и то откололся...
- Понял, что дурость это... От веку молятся, а бога никто не видывал.
- Я тоже не видал, врать не стану, – усмехнулся старик. – Может, не удостоился. Другим, сказывают, являлся.
- Брешут!
- Пей чаёк-от!
Науменко вяло дул в кружку с запашистым чаем. Дед Семён швыркал медленно, с протяжкой, получая от этого великое, неописуемое наслаждение.
- Добавить?
- Будет. И так весь влагой пропитался.
- Влага влаге рознь. От этой рассудка не теряют. Кто толк понимает, того за уши не оттянешь. Боярское питьё!
- Вода – она и есть вода.
- Не собирай никого-то! – обиделся старик его пренебрежительному тону. – Я воды сроду более стакану не пивал, а чаю полсамовара выдую – и хоть бы что.
- Убавь маленько!
- Давай кто кого перепьёт! – предложил старик.
- Давай, – опрометчиво согласился Науменко.
- Мотри, не оконфузься!
- а уж как-нибудь, – принимая чай, улыбнулся Науменко, предполагая, что сухонький дед Семён много не выпьет.
К пятому стакану Науменко расстегнул ворот гимнастёрки, отпустил на две дырки ремень. Сидел распаренный, тяжело дуя на опротивевший чай. А дед всё так же протяжно швыркал, не меняясь в лице, как будто это был его первый заход.
- В силах? – налив по шестому, с ехидцей спросил старик.
- Давай, – не желая сдаваться, с решимостью самоубийцы пододвинул свой стакан Науменко, чувствуя животом, что отпущенный ремень опять стал тесен. А со лба, со щёк, с подбородка катился густой пот.
После восьмого стакана Науменко затосковал, начал глотать мелко, для вида, одними губами. А дед Семён тем временем осилил девятый, десятый, одиннадцатый стаканы. Перевалил за дюжину. И лишь на шестнадцатом пожаловался:
- Старею. Потеть начал. В восемьдесят годов любого перепивал. Тебя-то моя старуха покойница пересилила бы.
- Ну, это как сказать! – сердито буркнул Науменко. От резкого движения у самой пряжки по гнилому шву лопнул ремень.
- Прелый был, – посочувствовал дед Семён, выцеживая из самовара последние капли. – Надо жилкой перешивать, да в два ряда. А эти токо для господ офицеров годятся. У них брюхи тонки. Помню, был у нас батареец один. Вот кого брюхом-то господь сподобил! Бывало, велит на спор по чреву прикладом лупить. Бьют, а он хоть бы что... Крепка утроба была! Мужичья!..
- Я тоже не из дворян, – сбрасывая ремень, заметил Науменко.
- Из мужиков-то самые лютые дворяне выпекаются. Враз от земли отвыкают. Про одного сказывали: в город уехал... Домой возвернулся и всё выспрашивает: это что, да это как называется. Чисто всё перезабыл! Ладно, на грабельные зубья наступил! Как черенком его в лоб хлобыстнуло, сразу в грабли-мать завернул. Воротилась память...
- Чудак ты!
- Без этого век долгим покажется. Шуткой от горя спасаюсь. Помню, оторвало мне ногу... Жутко, а я говорю ребятам: «Это, мол, ничего. На сапоги расходов меньше...».
Науменко перевёл взгляд со старика на портрет. Даже тёмная старая фотография не могла притушить зубастую, зажигательную улыбку человека, изображённого на ней.
- Твоя? – застёгиваясь, спросил Науменко.
- Сынова, – сник Семён Саввич. – В двадцать первом кончили. Тоже в активистах ходил. Мало пожил. А я вот чужой век ворую...
- Живи, Семён Саввич! – горячо обнял узкие плечи вековика Науменко. – Без тебя земля оскудеет.
- Ты за колхоз-то на меня не в обиде? – осторожно копнул старик.
- От тебя любую обиду стерплю.
- Неможется мне. Ежели к весне оклемаюсь – сам приду с заявлением. От хворого какой прок!
- Разладилось всё, расшаталось... Как думаешь, настроимся?
- Непреклонно! Ты сам выпрямляйся... Ишь, как скрутило тебя...
- Ничего, дед! Мы ещё повоюем!
- Со Христом! – ещё недавно подтрунивавший над верой старик истово перекрестил Науменко и легонько подтолкнул к порогу: давай, мол, не теряй понапрасну времени.
Глава 8
Одному тоскливо. И вдвоём тоскливо. Час от часу тоска всё больше, гуще, непроходимей. Всё чаще, уронив голову на руки, сидит Науменко за столом. И уж без напоминаний Мария ставит перед ним брагу или водку.
Сегодня не пьётся. После дедова чаепития к водке отвращение. Видно, не зря хвастал старик целебными свойствами своего чая.
Мария, разостлав постель, молча глядела на мужа, подойдя к нему, зарылась руками в волосы.
- А дров так и не привёз...
- Завтра привезу.
- Знаю, кому отдал.
Молчание.
- Ты сегодня какой-то непонятный.
- Трезвый.
- А я пьяная... от тебя.
- Горький хмель.
- Ты когда-то Марийкой звал... Отвык?
- Отвык.
- Знаю из-за кого.
До него не сразу дошло, что жена ревнует к кому-то. Но к кому?
Он ошалело поднял голову, недоумённо посмотрев на Марию.
- Ты о чём?
- Не притворяйся! Я всё знаю... И кому дрова привёз, и почему уезжать отсюда не хочешь... Замену мне подыскал? Всё равно я лучше её!
- Ты здорова?
- Не смей издеваться! Я всё тебе отдала, а ты...
- Возьми обратно, – Науменко закусил удила, заговорил с холодным бешенством.
- Как ты можешь! Как ты только можешь!
- Я всё могу...
- Теперь-то я знаю. Жалею, что раньше не знала! Я бы не стала скрывать от людей твои делишки...
- Какие делишки? – Науменко невольно понизил голос, резко откинулся к стене, стукнувшись головой.
- Перестань! Слыхала... Слыхала, как ты во сне своих выдавал...
- Молчи! Молчи, Мария! – Сам