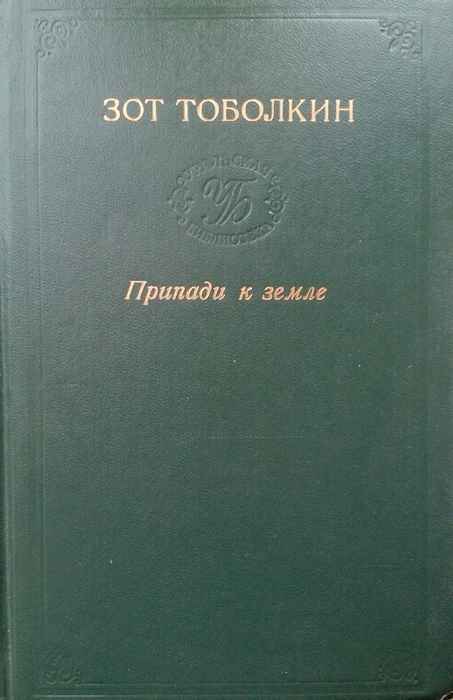сунув шашку в ножны, швырнул её на кровать и, наскоро собравшись, пошёл в правление.
Наказав Пермину, как и куда распределять людей, запряг парой дровни и поехал за сырником.
К зиме во всяком дворе выше человеческого роста поленницы сотами желтеют. Лишь у Науменко да у деда Семёна пусто. Мария имела право пользоваться школьными дровами, но пока обходилась.
Первая берёза поддалась быстро. Упала с хрустом, с гулким стоном. Роняя вторую, Науменко сбросил полушубок. Взмокший чуб застыл, покрылся инеем. Гимнастёрка на лопатках потемнела от пота, парилась.
«Совсем раскис! – доставая кисет, усмехнулся Науменко. Над ним мерно затукал дятел. – Вот это дровосек!»
Тук-тук-тук-тук-тук-тук – неслось сверху.
- Перекури! – крикнул Науменко. Птица недоумённо уставилась на него. – Не узнала? Я Науменко, здешний председатель...
Дятел вспорхнул и, перелетев на другую берёзу, вновь принялся за работу.
- Устыдил! – рассмеялся Науменко, берясь за топор.
К полудню он возвращался в село, шагая позади тяжело гружёного воза.
- Добр сырничок! – встретив его у своих ворот, похвалил дед Семён. – Мне бы вот край съездить надо, да завязнуть боюсь...
- Открывай ворота! – велел Науменко, вдруг позабыв, что дома тоже нет дров.
- За каким лешим?
- В гости заверну.
- В гости можно, токо угощать нечем. – Заехав во двор, развязал верёвку и, столкнув с дровней берёзы, уложил их у предамбарья.
- Ты в своём уме, Григорий? – заволновался Семён Саввич. – Чем расплачиваться буду?
- Как-нибудь сочтёмся, – отдыхиваясь, сказал Науменко. Помедлив, усмешливо спросил: – В колхоз не надумал?
- Агитировать пришёл? Сырничком покупаешь?
- Была такая задумка.
- Грузи обратно! – разозлился старик. – Ишь ведь как подкатил! Шустёр, окаянный!
Дед Семён одним из первых вступил в колхоз, приведя свою единственную лошадёнку. То ли от старости, то ли от недогляда кобылка окочурилась, и Афанасея свезла её на конское кладбище, в тот же день огорошив старика этой вестью.
- Выписывай из колхоза! – взбеленился дед Семён. – Ноги моей больше тут не будет!
- Да у тебя её и так не было, – намекнул Пермин на деревяшку, подвязанную к левому колену старика.
- Выписывай, аспид!
До этого, несмотря на свои сто лет, он ещё сторожил на скотном дворе и дежурил на каланче, помогая Евтропию. Теперь, кровно обиженный колхозом, больше на дежурство не выходил. Его заменил Митя Прошихин.
Науменко не раз зазывал старика в колхоз, незлобиво посмеиваясь над его неостывающим гневом. Впрочем, Кате, внучке своей, Семён Саввич не воспрещал работать на ферме и втайне гордился, когда Пермин в праздничном докладе назвал её ударницей, оговорившись: «Она хоть и внучка единоличника, а иным-прочим стоило бы поучиться у Катюхи!».
Дед сидел в переднем ряду и, пряча довольную улыбку, бухтел Дугину:
- Ситько-то, сукин сын! Катюньку до небес превозносит. А кобылу мою всё одно уморил!..
- Да твоей кобыле давно срок вышел! – усмехнулся Дугин.
- Это тебе вышел, чичимора гундявая! Не колхоз бы, она ишо лет десять бегала у меня.
- Могло быть, могло быть, – уступчиво согласился Дугин, посмеиваясь в бороду. – А ты не держи обиды! Теперь, поди, Егорий-храбрый приспособил её для себя. Удостоилась соловая! Так что смири гордынюшку-то!
- Значит, не хочешь? – с усмешкой вспоминая всё это, спросил Науменко. – Ну, тогда хоть чаем угости.
- Это всегда пожалуйста. Чай у меня особый, с чагой да с шалфеем: ото всякой дури лечит. От пьянства тоже.
Науменко нахмурился и, спрятав лошадей, молча стал выезжать.
- Ты куда? – всполошился старик, любивший принимать гостей. – Ай обиделся? А я ведь от проста души, Григорий!
- Любишь ты без мыла в душу лезть!
- Эх, председатель! – упрекнул старик, привязывая коней к заплоту. – Со стариком-то можно бы и поочестливей. Я тебя раза в три постаре. Заходи давай!
Науменко, впервые оказавшись в доме Семёна Саввича, с любопытством оглядывал его жилище. Избёнка неказиста, но опрятна: и выбелена и выкрашена. Божница в цветах. Рядом с ней фотография. На подоконниках, меж раздвинутых задергушек, столетник и герани. Кровать устлана ручной вышивки покрывалом. На перовых подушках яркие цветастые наволочки. Стол под гарусной скатертью. Пол в тряпичных, собственного производства половиках. Нехитрый деревенский уют. А снаружи – развалюха.
- Глянется? – ласково усмехнулся старик, довольный тем, что сумел затащить в гости председателя. – Хоромы – ни в сказке сказать, ни пером описать...
- Хоромы – в самый раз, – ответил Науменко, дивясь опрятности, выделявшей Катю даже среди чистоплотных кержаков [3].
- У меня на загнётке завсегда чугунок с кипятком, – гремя заслонкой, говорил старик. – Да вот беда – из чугунка чай за чай не считаю.
Избаловался... Мне подавай из его благородия самовара. В самоварной воде дух ядрёней. Раз пивнёшь – неделю отпыхиваться будешь.
Семён Саввич снял с полки до сверка начищенный самовар, насыпал из загнётки углей. Вскоре самовар тоненько затянул свою заученную песню.
- Во машина! – удовлетворённо прислушался старик, поднял палец вверх. – Поёт не хуже дьякона!
- Не слыхал, не знаю! – всё ещё не отойдя, хмурился Науменко.
- Советую. Шибко завлекательно! Я хоть и беспоповец, а ежели случай подвалит – непреклонно заворачиваю в церкву. Единоверцы- то мои не знают о том, а то бы к молитве не допустили... Ты уж не сказывай им! – Дед с хитрецой прищурился, вытер стаканы, нарезал хлеб. – Я так усчитываю: богу всё едино, где ему молятся. Сам я никакой строгости не переношу. Строгость – она токо отпугивает. Курить не смей, с мирскими из одной посуды есть не моги. Вьюношем несмышлёным, под отцом ишо, блюл я эти заветы, потом отринул. Тятенька-то мой к самосожжению себя присудил. В солдаты не хотел идти. Заодно нас с маменькой подпалил. Они сгорели, а меня добры люди отстояли от огня. С тех пор я и не даю себе укороту. Хоть и баловства особо не допущаю. В Крымскую табачок покуривать начал. По-тамошнему тютюн зовётся. Ну, тютюн – он и есть тютюн. Нашему в крепости уступает...
Науменко краем уха вслушивался в надтреснутый говорок деда Семёна. Было