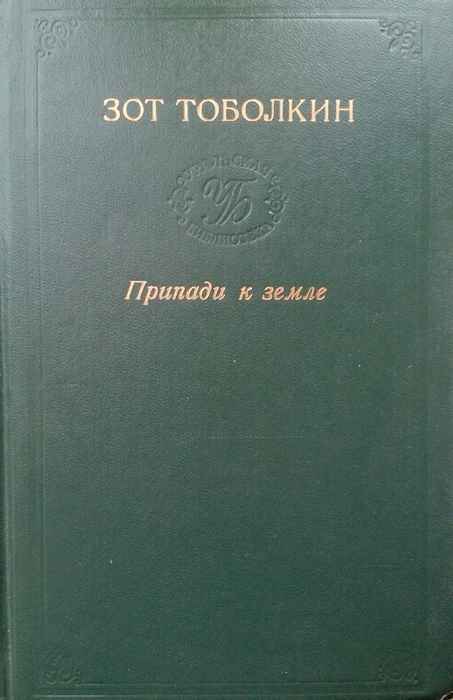Ямин.
Ещё в детстве, когда мать ворчала на него за то, что сутками пропадает в тайге, отец говорил: «Не тронь его! Не набродится – затоскует. Нет хуже, когда человек по воле затосковал. Видно, в жилах наших бродяжья кровь. Она и не даёт покою. Пущай набродится парень...».
И верно: как загудят ноги, зажжёт подошвы, заноет от усталости под ногтями, приходит Гордей успокоенный.
В глазах весело. В сон клонит.
Как проснётся после этого – дела дай: сила пружиной распирает тело, выхода ищет. Тут и начинается житьё на износ.
За это вот и прозвали Яминых двужильными.
И кабы одно тело тосковало, нашёл бы Гордей ему успокоение. Душа тоскует, и нечем её ублажить.
Маета маетная!
Теперь уже ни лес, ни дорога не дают забвения. А всё-таки от усталости легче, если она приходит.
Он смотрит не под ноги, но ничего не видит вокруг. Да и видеть нечего. Этот лес вдоль тракта знаком с детства. Здесь, бывало, он надолго терялся, находил убежище и возвращался домой измученно-счастливый. Здесь воевал. Здесь же водил с собою сына, уча его всему, что сам не скоро постиг в особенной жизни леса.
Нету сына.
Был он лишь внешне похож на Гордея. С самого детства Александра приметила в нём необъяснимую, только ей видную обречённость и с затаённым страхом ждала чего-то жуткого, что, возможно, могло произойти с ним.
- Хоть бы войны не было! – обеспокоенно глядя на сына, вздыхала она. Не было войны, а он погиб. Видно, сам себе смерти искал. В последнее время смутный ходил, надломленный. Что надломлено – доломать нетрудно...
«Сроду бы я пуле не дался! – думал Гордей, уходя всё дальше. – Пуля скорбного стережёт...»
Пройдя три-четыре километра, увидал впереди, за поворотом женщину. На руках – свёрток. За спиной – мешок.
«Афанасея!» – узнал Гордей и догнал идущую.
- Далеко ли собралась?
- От Гриши весточку получила, к себе зовёт.
Ребёнок пискнул и завозился.
- Тяжело будет. Путь неблизкий.
- Доберусь.
- Кланяйся Григорию. Скажи, мол, помним его.
- Скажу. Отпустят – оба приедем. Примешь?
- Какой разговор!
- Я шибко виновата перед тобой. Кабы про Фатеева раньше сказала – жил бы Прокопий.
- Не уберегли. Ты своего младенца береги в дороге.
- Да уж постараюсь. Прощай покуда.
- Прощай.
Они расстались. Одна и та же дорога вела их в разные стороны. И там и здесь проглядывались её концы. Но это был лишь обман зрения. Подойдя ближе – увидишь: тянется вдаль нитка неизвестно кем распутываемого клубочка. Тянется, и нет ей конца. А может, и есть, кто знает.
Это вокруг, рядом, всё ясно, зримо, лишено тайн. На старом, молнией расщеплённом кедре верещит беззаботная векша; передние лапки прижаты к груди, в них – шишка. Если бы не любопытная плутоватая мордочка – точь-в-точь снежный сугробик на ветке. Гордей скользит мимо неё равнодушным взглядом: «Страдует. Видно, худо на зиму запаслась». Выронив почерневшую шишку, белка метнулась на соседний мощностволый в густом оперенье кедр, вскарабкалась на вершину и пропала где-то за стрельчатым куржаком.
Пенное облако, давно стывшее в жидком подсинённом небе, рассосалось... Разгорелось холодным сверкающим костром солнце. Заиграл, заискрился волнистый наст, порозовела только что голубоватая дорога. Синеватая крыша над головой приподнялась, и тихо-тихо, серебряно-серебряно тенькнул невидимой стрункой морозец. Звук этот, нарастая, разбудил взбалмошную сороку. Она недовольно закрутила хвостом, открыла один глаз, другой, негодующе восстрекотала. Мороз заиграл на всех струнах, заполнил звоном своим всю необъятную, только что дремавшую будто бы в ребячьем неведенье землю...
- Добро, – прислушиваясь к восходящим ввысь голосам, щурясь от грозного торжествующего света, заполоводившего всё вокруг, пробормотал Гордей. – Добро...
Совсем рядом пушечным снарядом взорвался косач, сбил крылом снег с веток, вспугнул векшу, выронившую ещё одну недогрызенную шишку, и, поднявшись над лесом, послал своим сородичам и всему миру утренний привет.
Заярье дымилось поздними дымами, скрипело, кашляло, материлось, чихало, пахло варевом и печёным хлебом.
Глухо трубили коровы. Весело пророчили петухи.
У колодцев звенели вёдра.
Рокотал под ногами блескучий снег.
Добро.