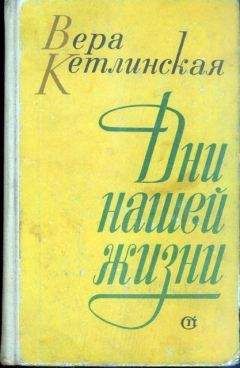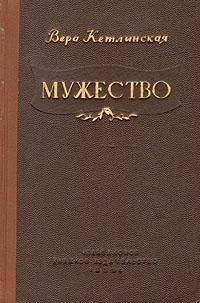— Давайте чулок, — потребовала Антонина Сергеевна и надела пенсне.
— Ой нет, я сама!
— Нет уж, не спорьте. Со мною и сыновья не спорят, а гостье и подавно не полагается. Ксана покорно сняла чулок.
— Какие у вас ножки маленькие. А когда вы идете, кажется, что ноги у вас сильные и крепкие.
— А они и есть сильные. Я спортом много занималась — легкой атлетикой, бегом, греблей.
— Почему — занимались? А сейчас?
— Сейчас тоже, но меньше. Не успеваю.
— Вот и Коля не успевает.
За столом воцарилось молчание. Ксана следила за тем, как тонкая игла аккуратно затягивает дырочку шелковой паутинкой.
— Как вы хорошо штопаете. Мне бы так не суметь.
— Вы, наверно, с мамой живете?
— У меня нет мамы. Уже давно.
Антонина Сергеевна опустила руки с работой, сняла пенсне:
— Как же вы…
— Я в детском доме росла.
— Господи! А какая умница выросла!
Ксана опустила глаза. Положительно, в ней нет никакого высокомерия. И можно поручиться, что она смущена оттого, что перед нею мать Николая Пакулина.
— Сколько вам лет, Ксаночка? Это ничего, что я вас так называю?
— Ой, я очень рада. Мне двадцать.
— И моему Николаю столько же. Какая теперь молодежь развитая! В двадцать лет бригадиры, депутаты, — никогда такого не было.
Ксана явно хотела что-то сказать или спросить, но удержалась.
— Вы слыхали, Ксаночка, что у Коли бригаду на три разделили?
— Да, мне говорили. Ему, наверное, очень грустно было?
— Так ведь что поделаешь — надо!
— Надо-то надо, но ведь жалко… Я бы, наверное, в отчаянии была.
— Да?
— А как же? Впрочем, ваш Коля такой...
— Какой?
— Выдержанный очень, сознательный. И с характером. Он, наверно, всегда собой владеет. Я так не умею.
Антонина Сергеевна промолчала, только улыбнулась. Девушка все больше и больше нравилась ей.
— Хорошо, что вы это понимаете, — снова принимаясь за работу, заговорила она, — девушки часто судят по внешности, пленяются манерами, ловкостью, умением поухаживать и себя показать. Они думают, что если молодой человек скромный и серьезный, то на него и смотреть не стоит.
Снова воцарилось за столом молчание. Антонина Сергеевна поднимала петлю и, казалось, была всецело поглощена работой. Ксана сидела, поджав под себя голую ногу, и все порывалась что-то спросить, но не решалась.
— Коля сделал доклад в общежитии? — спросила она, хотя это был совсем не тот вопрос, который вертелся на языке.
— В общежитии? Кажется, нет. Хотя... Какой-то доклад он делал на днях. Он очень занят сейчас с этими тремя бригадами.
— Почему тремя?
— Ну как же? Он хочет, чтобы все три стали такими, какой была одна.
— Вот молодец!
— Да, он хороший... Не потому, что я мать. Я много вижу молодежи и могу сравнивать. Он действительно очень хороший.
— Я знаю, — сказала Ксана.
Они внимательно посмотрели друг другу в глаза, — каждая хотела что-то прочитать в глазах другой, что-то такое, о чем не спросишь.
Близко хлопнула дверь, раздались шаги. Ксана вся подобралась, прислушалась — нет, шаги затихли, это не сюда. Антонина Сергеевна заканчивала работу, от всей ее позы, от ее быстрых, искусных пальцев, от ее склоненной гладкой головы с проблесками седины веяло материнским теплом.
— Вы говорите — депутат, — вдруг быстро сказала Ксана. — Да, я депутат, даже, кажется, самый молодой из всех. Это, конечно, почетно и ответственно. Но вы себе не представляете, как это трудно!
— Много работы?
— Я не о том. Я о личной жизни. Разве я не такая же девушка, как все, оттого, что меня выбрали? Разве я живу какой-то другой жизнью? А некоторые почему-то думают, что я какая-то не такая, как все, и со мной не как с другими, и, скажем, пригласить меня просто потанцевать... А ведь мне тоже хочется танцевать!
Последние слова прозвучали обиженно.
— А если молодым людям кажется, что они вас недостойны? — не поднимая глаз от работы, тихо сказала Антонина Сергеевна. — Ведь вы и в самом деле не совсем обыкновенная девушка, вы умница, вы работник, вас старые люди уважают, не то что молодые. Как же перед вами не робеть? А если молодой человек еще и влюблен...
Ксана вспыхнула. Лоб, уши, даже шея ее порозовели.
Она была рада, что Антонина Сергеевна не смотрит на нее.
— Но ведь не может девушка сама пригласить кого хочет? — еле слышно сказала она.
Антонина Сергеевна перекусила нитку и подала Ксане чулок, лукаво усмехнулась:
— Разве девушки не умеют заговорить первыми так, чтобы получилось, будто первым заговорил он?
У Ксаны широко распахнулись глаза. Распахнулись и просияли.
— У меня же нет никакого опыта, — пробормотала она.
— Но ведь есть и молодые люди, у которых его нет?
Ксана натянула чулок, всунула ногу в туфлю и порывисто обняла Антонину Сергеевну:
— Такое спасибо вам... такое спасибо!
— Не стоит, Ксаночка. — За этакую малость! — ответила Антонина Сергеевна, как бы совсем не понимая, за что ее благодарят. — Я люблю штопать, и мы так славно поговорили с вами.
Комнатка комсомольского бюро помещалась во втором этаже пристройки и окном выходила прямо в цех, так что равномерный рокот машин, шипение, скрежет и лязг обрабатываемого металла заглушали здесь голоса, а передвигающийся под крышей кран порою отбрасывал в комнату свою скользящую тень.
Кран как бы напоминал о себе и упрекал Валю Зимину: «Я-то тружусь по-прежнему, а ты где?»
Вот уже несколько дней прошло, как Валю перевели с крана в ПДБ к Бабинкову — дежурным диспетчером. Так было удобнее вести комсомольскую работу. Воробьев шутливо сказал:
— Какая может быть связь с массами, если секретарь комсомола весь день на недосягаемой высоте?
Валя понимала, что он прав, но ей было жаль расставаться с краном, она привыкла к своей кабинке, к громоздкому и послушному гиганту, таскавшему по мановению ее руки многотонные тяжести, она любила панораму цеха, открывавшуюся ей с высоты. В ПДБ весь день волновались то из-за одного, то из-за другого, непрерывно трезвонили телефоны, и приходилось, хочешь или не хочешь, по нескольку раз в день разговаривать с начальником сборки Гаршиным.
Когда Валя впервые, зажмурив глаза, позвонила ему, чтобы проверить, поступила ли на сборку партия лопаток, Гаршин еще не знал, что она работает в ПДБ, и с любопытством спросил:
— А кто говорит?
— Дежурный диспетчер, — строго ответила Валя. — Получили вы три набора лопаток?
— Получили, товарищ дежурный с очаровательным голосом, — сказал Гаршин. — Можно узнать ваше имя?
— Валентина Федоровна, — еще строже сказала Валя и повесила трубку.
В тот же день Гаршин узнал, кто такая Валентина Федоровна, попробовал установить мир и назвал ее Валечкой, но Валя сухо поправила:
— Меня зовут Валентина Федоровна, — и опять повесила трубку.
Два дня спустя он остановил ее в садике возле цеха, покорно и добродушно назвав ее Валентиной Федоровной.
— Я давно хотел сказать вам, Валентина Федоровна. Вы не сердитесь. Мне было очень тяжело, и я невольно обидел вас. Если бы вы знали...
— А зачем мне знать? — твердо возразила Валя, хотя сердце ее колотилось так, что, казалось, по всему садику слышно. — Что бы ни было, я рада. Это спасло меня от ошибки.
Круто повернувшись, она ушла. Со стороны можно было понять, что девушка щелкнула по носу бывшего поклонника, и только одна Валя знала, каких усилий стоило ей так поступить.
Теперь она сидела в комнатке комсомольского бюро, заново переживала свое торжество над Гаршиным, с удивлением понимала, что былого трепетного, всепрощающего чувства к нему уже нет... и смотрела на Аркадия Ступина, стараясь разобраться, что же это такое — отношения, связавшие ее с этим парнем, не похожим на других.
Аркадий, Николай Пакулин и Федя Слюсарев сидели за столом и делили бригаду. Николай заранее составил списки трех бригад. Валя видела эти списки и считала, что все учтено и предусмотрено, остается только принять и выполнить. Но Аркадий и Федя почему-то ожесточенно возражали, голоса их повышались до крика, лица краснели, так что казалось — все трое вот-вот перессорятся насмерть.
Шум, доносившийся из цеха, мешал Вале расслышать, в чем дело. До нее доходили лишь обрывки фраз:
— А я говорю — несправедливо и неправильно! — Это крикнул Федя.
— Если я бригадир, так я и хочу... — Это — Аркадий.
— Играть — так на равных! — Это — снова Аркадий.
Николай возражал рассудительно и чуть насмешливо, но в ответ опять вскрикивал Федя:
— Несогласен!
И Аркадий, презрительным движением отбрасывая списки, перекрывал шумы цеха раскатистым:
— Отказываюсь, вот и все!
Валя вспоминала робкую тень, когда-то маячившую возле Аларчина моста и подстерегавшую ее на остановках, у ворот, в Доме культуры — везде, куда бы она ни пошла. Она вспоминала вечер, когда он без спросу ворвался к ней, не только в ее комнату — в ее жизнь и душу он тогда ворвался без спросу. Она перебирала в памяти все, что было после того вечера. И удивлялась, что вот он сидит тут, не оглядываясь на нее и, возможно, не думая о ней, и что он самый близкий ее друг, а отношения их так запутаны, что невозможно разобраться, и уж совсем невозможно предсказать — чем все кончится.