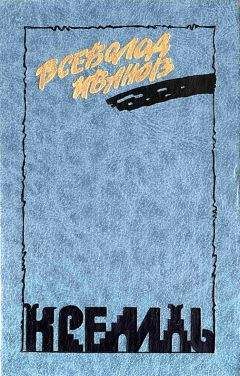Милитина Ивановна сказала, что в Кремле нет ничего нового, ждали экскурсию из Мануфактур, думали, придут ткачи, а явилось пятнадцать человек мальчишек, да и те, как видно, больше из-за Агафьи, — Милитина Ивановна, взяв под руку приемыша своего Егорку Дону, в длинном своем платье, обшитом стеклярусом, и с талией у самых подмышек, идет в гору.
Тов[арищ] Старосило всматривается в пароход и думает: «Почему здесь поставили на часы хромого, сонного идиота, здесь, у парохода, важный стратегический пункт, и я об этом упущении сообщу в штаб армии, прямо».
IX
Е. Чаев к вечеру раскаивался горько. Ударили к вечерне. Томиться не было сил. Он решил найти в соборе И. П. Лопту и униженно извиниться перед ним. На паперти, устланной чугунными плитами, корчился Афанас-Царевич, утирая заплаканное лицо рогожей. Собор был полон. Е. Чаев увидел Агафью. Она, скромно потупив глаза, стояла у входа. Афанас-Царевич, заглядывая в собор, кланялся ей. Все входящие осматривали ее величественную нежность, похожую на акафисты. А. Щеголиха продавала свечи, ее две помощницы по чайной, недавно раскаявшиеся и вернувшиеся из сектантства в несокрушимое православие, ходили с кружками. Старшая из помощниц, Шурка Масленникова, держала кружку с надписью: «На печатание Библии». Шурка старалась скрыть свой неимоверно разросшийся зад и подозрительно отцветшее лицо. В кружку опускали многие. Опустил и Е. Дону, воспитанник Милитины Ивановны, озорник, хулиган, но пришедший в собор, как понял Е. Чаев из разговоров, по одному слову Агафьи. И весь собор смотрел на него с умилением.
Е. Дону, положив деньги, вышел покурить. Переваливающейся походкой, по-фабричному, он спускался по чугунным плитам паперти. Профессор З. Ф. Черепахин с синей папкой под мышкой возвращался из уисполкома. Е. Дону быстро свернул к профессору, поравнялся и — локтем вышиб у него папку. Профессор взглянул растерянно.
— Подними! — визгливо крикнул Е. Дону, сунув руку в карман.
Профессор поднял папку, и Егорка сказал, стукнув финкой по папке:
— Я тебе, старая крыса, нутро вычищу, ты у меня вздумаешь еще нас в музей сдавать, я тебе укажу доклады!!.
Профессор зашептал что-то неразборчивое. Егорка все той же переваливающейся походкой пошел через площадь.
Е. Чаев решил немедленно разыскать И. П. Лопту. Калитка в его сад была открыта. Е. Чаев с сожалением посмотрел на Кремлевскую стену, вспоминая дурацкую утреннюю свою шутку. И. П. Лопта не любил собак, двор оттого показался Е. Чаеву еще более обширным и пустынным. Он прошел в прихожую. Он откашлялся. Чаева охватило беспокойство, он шагнул в горницу, служившую, видимо, столовой. Молчание встретило его. Через горницу, медленно, не глядя на него, прошла серая кошка. В окно он увидел крышу и звонницу собора. Звонарь ходил среди огромных колоколов, похожих на ели, птицы носились среди веревок. Е. Чаев попробовал окликнуть, ему не ответили.
На синей, тщательно выглаженной, так что видны были горбатые складки, скатерти лежало Евангелие, должно быть, то, о котором говорил ему И. П. Лопта. Оно толсто и серебряно, тускло перекликаются в нем многие столетия и дешевенькая зелененькая закладочка в нем. Е. Чаев взял евангелие в руки. Да, можно понять жадность И. П. Лопты, не пожелавшего отдать книгу общине. Рядом лежали — «Известия». Чаев ухмыльнулся и положил книгу на газету. Он обошел весь пустой дом, вышел на крыльцо, покурил, курицу подразнил: «Тох-тох» — и быстро вернулся в дом.
Он не спеша, прислушиваясь, завернул евангелие в газету, взял его под мышку и, сразу же вспомнив профессора и жест Егорки Дону, выпустил книгу. Книга упала. Он не желал быть вором, но ему хотелось досадить, поймать и обмануть обманывавших его — мысли менялись в нем часто. Он понимал, что люди, которых он хочет обмануть, имеют такое же право, как и он, на иные желания и иную веру, чем у него, — и все же их вера раздражала его! Он схватил книгу, он уже не имел силы развернуть ее, — если бы он ее развернул, он оставил бы ее. Он шагнул в сени. Он одеревенел, тот страх, который владел им, когда медведь нес его по валам, опять смял его сердце. Мимо него, босиком, держа ботинки в руках, прошла Агафья.
Улица остановила его бегство. Он взмахнул рукой, чтобы кинуть евангелие через забор, в сад И. П. Лопты, — его окрикнули. К нему направлялся взволнованный профессор З. Ф. Черепахин. Мальчишки расставляли городки, — [Е. Чаев] устремился к Волге. Он лег в кусты и тотчас же заснул. Роса разбудила его. Он дрожал. Он стал прыгать, развел костер, какой-то рыбак подошел и поинтересовался клевом. «Плохо клюет», — ответил Е. Чаев. Он вспомнил, что ночью должен встретить пароход, на котором плыла мамаша его Ольга Павловна, она сильно желала встретить сына и расспросить его о делах. Он подумал: не кинуть ли ему евангелие в реку? Но не будет ли тогда наказание церковников еще более грубым, нежели тогда, когда он раскается и возвратит сам?
У Агафьи есть, видимо, причины, если она не остановила Е. Чаева сразу и сразу же не уличила его! Благодарность и негодование стиснули сердце. Надо пойти и поговорить с Агафьей, признаться ей в шутке, и, если она его считает виноватым, он рад загладить свою вину чем угодно. Ему стало легко. Он шутник и веселый человек. Он прошел через весь Кремль спокойный, размахивая евангелием, завернутым в газету. Загудел пароход. Сонные пассажиры торопливо махали длинными билетами. Ольга Павловна деловито его обняла. Она везла теперь вверх продавать иконы и добавленные к тому арбузы. Она подробно выспрашивала, как идет его работа, щурилась и была недовольна. Он врал ей. Она похвалила его, что он смог быстро найти столько гражданских мотивов во фресках, — она дала ему пять рублей, подумала и прибавила еще пять. Она вынесла ему арбуз, сделала карманным ножом пробу, вкусила и впервые улыбнулась.
— Вот я везу арбузы и богов, — сказала она с пренебрежением, — а то и другое — одинаково скоропортящийся продукт. Рентабельное место занимай, Еварест, происхождение твое не дворянское, слава богу, не купеческое. Народ, я смотрю, растет, мест еще меньше будет, все займут. Я вот на иконы смотрю, по иконам жизнь стараюсь понять, и какую же, ты думаешь, икону требует заказчик?..
— Георгия-Победоносца, — ответил Е. Чаев.
— Женщину требует на икону заказчик, женщину, Еварестушка, бабу хозяйственную и чтобы покрасивей.
Выгружали длинный ящик. Суетился хмурый Вавилов. Ольга Павловна спросила: кто это и не деловой ли чиновник? Еварест объяснил, Ольга Павловна выразила готовность похлопотать. Е. Чаев пренебрежительно разъяснил ей полную бесполезность рыжего, направился к нему развязно, попросил закурить и сочувственно сказал: «Все скорбите». Вавилов зажег ему спичку, криво ухмыльнулся, и Ольга Павловна согласилась, что рыжий словно посконь — посеешь — родится, а на семена не годится.
о том, как Вавилов поговорил с Зинаидой; как мнихи-наборщики встали к реалу; как Еварест Чаев пас коня и что говорила Агафья на собрании Религиозно-православного общества
I
Колесникова приняли на фабрику. «Четверо думающих» получили каморку в корпусах. Вавилов приписывал выдачу каморки своему заявлению в жилищную секцию Совета: заведующий культурно-просветительным отделом, а вынужден жить у пьяницы Гуся. Жизнь там, правда, веселая и поучительная, Колесников уходил оттуда с неохотой. Колесников совсем отбился от «пяти-петров», и это немного порадовало Вавилова, вот если б Колесников не пил, но и трудно было не напиться у Гуся. Гусь хвастался, что около его стола прошли все революции и все революционеры знают его, многие пили из его рюмок. Сам он уже давно покинул производство, был сед, шестидесятилетен, толщины необъятной и на громадном своем животе носил многие уже годы лоснящуюся фрачную жилетку. Он сидел всегда посреди комнатенки, на толстом табурете, вытесанном им самим еще в дни молодости, и к нему за веселым разговором и за сплетнями шли пьяницы со всего поселка. Летом он часто переносил пьянство в пустырь, который он называл «Вифлеемским садом». Он обладал чудовищной памятью и способностью всегда оставаться трезвым. Он знал всех в поселке по имени и по отчеству, знал, кто когда родился, крестился и когда женился. Он редко выходил из дому, особенно после того, как прекратились кулачные бои, коих он был великим любителем. Для бабы стал силу свою беречь мужик», — сказал он уничтожающе. Он очень обрадовался, когда приехал М. Колесников, обещавший возобновить кулачные бои, которые есть даже в Москве, в Девкином переулке. Он, Милитон, покажет, как надо драться! Гусь-Богатырь смотрел на розовые его кулаки с любовью. За водкой Гусь сам никуда не ходил, даже мальчишкой, и чрезвычайно гордился тем, что водка к нему текла сама. Он разливал, пил не пьянея, «потому что в жизни не огорчался», он сидел на своем табурете благостный и добрый, всех называл по имени и отчеству, даже босяков, бывавших у него лет пять или десять назад.