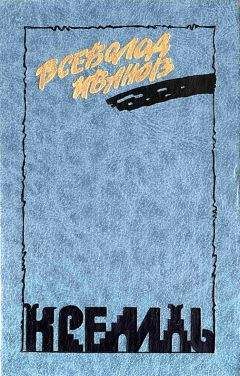В типографии справляли печатание первого листа Библии. Наборщики выпили, выпили и монахи, принятые в рабочие временно, пока не придет санкция из губернии. И. П. Лопта, сын его Гурий стояли у печатной машины. Николай исправлял последнюю корректуру. Многим хотелось увидеть Агафью, — она обещала быть. Она много сделала в последние дни для дела церкви и дела Библии.
Типография находилась в полуподвале, но и здесь было жарко. Раскрытые стопы бумаг тускло блистали. Пахло скипидаром, валиками, водой. Двери в бумажный склад были распахнуты; там на обрезках бумаги спал полуголый пьяный Лимний. Наборщики, посмеиваясь, скидывали рубахи. Тела их блистали тусклым светом бумаги. Лоскут длинного бархатного платья на секунду застрял в решетке окна. Агафья спускалась по ступенькам, И. П. Лопта протянул ей навстречу пухлый, разрезанный карандашом, только что сфальцованный лист Библии. Она перекрестилась. Шмель влетел в окно и понесся над машинами и бумагой, являя желтое, полосатое, бархатное свое брюшко. Вздыхающим стуком двинулась печатная машина; из-под валиков вылетели сияющие линейки, и затем показалась и исчезла вся тяжелая красота набора. Печатник взял лопаточкой краску из бочонка, она старалась ускользнуть обратно, он ее ловил на лопатку, и она оседала тающими кружками.
Николай, мних и наборщик, как подхватил последнюю шпацию из набора на шило и как она взыграла, словно рыба, так он остался, восторженный, плотный, много лет не работавший и чрезвычайно довольный своей работой. Его смущало только голое тело Лимния, развалившегося на бумагах. Агафья улыбнулась Николаю, он выронил шило и прослезился, гляди на набор. «Стосковался», — сказал он. Агафья направилась к заведующему Хлобыстаю-Нетокаевскому, который сидел за складом, в стеклянной загородке. Она взглянула в склад. Голый Лимний насмешил ее, она расхохоталась. Лимний вскочил, тело его напружинилось, — Агафья опустила глаза.
— Смеетесь! — заорал Лимний. — Вам угождают, а вы смеетесь. Тарелка с остатками колбасы валялась на столе. Лимний схватил тарелку:
— Жеребца хочешь? Смотри, какой силой кричит жеребец!
Он разорвал остатки одежды. Посыпались осколки тарелки.
— Выгнать его! — сказала Агафья и повернула к выходу.
Николай восторженно смотрел на ее строгость. Гурий перекрестил Лимния. Тот огляделся изумленно, упал на бумагу и мгновенно заснул. Хлобыстай-Нетокаевский закрыл лицо руками. Позор! Он без ропота донес Агафье колесо, но она не вышла к нему. Он взял монахов-наборщиков по ее просьбе, он печатал Библию, но и тут она не подошла к нему. Он ненавидит бога, и бог преследует его. Хлобыстай-Нетокаевский вскочил, громко спросил через всю перегородку, как местком смотрит на такую похабщину. И местком ответил ему немедленно — уволить. «Уволить», — подписывая свою резолюцию, прочел Хлобыстай-Нетокаевский.
Е. Чаев пришел к типографии мириться с И. П. Лоптой. Он принес евангелие, по-прежнему завернутое в «Известия». За работой он думал о своей шутке, за едой тоже. Евангелие властвовало над ним. Он прислушивался к разговорам о своем медвежьем въезде, — разговоры начали стихать. Он подошел к лестнице, решительно распахнул дверь, — по лестнице навстречу ему шла Агафья. Нежное лицо ее изнывало в злости и в каком-то удовлетворении. Увидев Е. Чаева, она подумала, что если ей суждено иметь мужа, то муж ее должен быть тихим и женственным. Она выхватила евангелие, оттолкнула Чаева, тот прислонился к стене, хотел что-то сказать, протянул руку, — она обратно положила ему евангелие и захлопнула дверь. Он вбежал за ней. Она сказала: «Отстань, монахов позову». Он остановился у окна. С пухлым оттиском первого листа появился на улице И. П. Лопта. Гурий, заложив за спину руки, шагал следом. Гурий сказал:
— Если мыслить символами и предзнаменованиями, отец, то весьма странно ознаменовал господь появление первого листа своего творения.
— Откуда у тебя богохульство, Гурий? Дьявол это ознаменовал, а не господь. Господь накажет Лимния.
— Господь более милостив, чем думаем мы, он не станет наказывать больного и полоумного. О великом бешенстве пола напоминает нам господь случаем с Лимнием. Берегись, человек, уподобляйся камню.
И. П. Лопта направился к окну. Он взял Е. Чаева за лацкан толстовки. Борода у И. П. Лопты похожа на серп, И. П. Лопта, по всей видимости, думал, что Е. Чаев стоит здесь ради Агафьи и ради Агафьи желает мириться с церковью.
— Раздумал я о своем предложении, иконописец! С тысячу верст великой муки и испытаний пройдем своими силами, пройдем, небось, Гурий. Не жди, иконописец, союза.
— Пройдем, отец.
— А конюх общине требуется, и не поступишь ли ты, иконописец, в конюхи?
Е. Чаев понял, что старик чванится, старик рад случаю унизить богомаза. Но твердо Еварест не был уверен в своем предположении, — по-прежнему над ним ныло украденное евангелие. Он сам кинулся в унижение, испытывая томительное и пугающее наслаждение.
— Поступлю, — ответил он. — Три дня не ел… рисовать устал.
И. П. Лопта изумился. Гурий неодобрительно покачал головой, но гордость уже захлестнула И. П. Лопту. Он подумал, что Чаев спросит жалованье, и это будет предлог отказать ему, но Чаев не спросил.
— Иди, накормлю, — буркнул И. П. Лопта и пошел. Гурий остановил растерянного Е. Чаева, который уже шагнул за И. П. Лоптой. Гурий заговорил осторожно:
— Конюхом, Еварест Максимович (Е. Чаев необычайно удивился тому, откуда Гурий узнал его отчество), сказано чересчур громко, мой отец пышен. Двор наш, Еварест Максимович, передан общине, и община, следовательно, владеет конем. Правда, передача эта еще не оформлена и больше все на словах, но в связи с печатанием Библии и возможными затруднениями с бумагой и прочим понадобятся поездки. Отец мой крепок больше душой, чем телом… Вы нам окажетесь весьма полезны, много мы вам платить не сможем, приходы наши бедны, и вы, как изволите видеть, узнали, что священники наши ходят побираться по плотам, некоторые общины при кремлевских церквах имеют всего состава по шесть, по восемь человек. Вы юны и крепки, Еварест Максимович, а церковь весьма нуждается в юных организаторах. К тому, как нам известно, и технически вы образованны, а от нас власти требуют и ремонтов, и смет, и хотя учение ума несравненно с наукой чувств, все ж будет полезно объединение вами юных сил несокрушимого православия с техническими доводами в пользу веры.
Он задумчиво обернулся к возвышенности Рог-Наволог. Он хотел риторическое обращение свое закончить высоким жестом к горам. Над Туговой горой, похожей на два сосца, стлался легкий дым. В воздухе пахло гарью, уже несколько дней горели не то леса, не то болото на плато горы. Передавали, что в районе Мануфактур видели выгнанных лесным пожаром лосей и волков. Религиозно-православное общество и общество хоругвеносцев чрезвычайно нуждаются в дельных и грамотных работниках, и если вы, Еварест Максимович, пожелаете вступить в оное общество, я помогу вам всем моим слабым авторитетом…
— Я рад… я благодарю вас, ваше преподобие.
— Ну вот, а кто-то даже распустил слух, что вы организатор и представитель баптистов… Да… сегодня кружка «на печатание Библии», дорогой Еварест Максимович, в Кремле, где люди голодают, где иереи просят милостыню, где не только нам, — может быть, мы и виноваты перед властью, — но и детям нашим не дают пайков, здесь кружечный сбор нам дал двадцать рублей. В Мануфактурах люди заботятся о квартирах, и суды наполнены квартирными тяжбами, — у нас отдают дома в пользу церкви, родовые священные книги, нательные кресты. В Мануфактурах люди думают о любви и наслаждениях, — у нас девственная дева, поклявшаяся в любви к Христу, несет людям утешение в страданиях, жертвует своей жизнью… Кремль свят еще, Еварест Максимович.
— Свят, отец Гурий, благословите на подвиг.
— Я не рукоположен, брат мой, я просвещаю в светском чине.
III
Евареста послали пасти коня на Ямской луг. Он понял, что это испытание: коня не трудно сдать в городской табун. За Ужгой на лугу каждый день фигурял саблей со своего коня азиатец Измаил. Сперва многие влезали на Кремлевскую стену, чтобы посмеяться и полюбоваться на него, а затем привыкли. Еварест ехал лугом и завидовал коню Измаила, и хотя за Ужгой трава была лучше, — он спутал коня по сю сторону. Еварест уже начинал чувствовать ревность к хозяйству и к славе И. П. Лопты. Это радовало и злило его, радовало потому, что он сознавал себя глубоко религиозным, а, следовательно, и способным воплотить религиозные замыслы: в рисовании ли, которым он сейчас совершенно не мог заниматься, в строительстве ли церкви; и злило потому, что до сего дня он не мог передать Агафье евангелие, многое мешало этому… Измаил подъехал к берегу, опустил поводья, конь его «Жаным» сердито посматривал на коня Евареста.