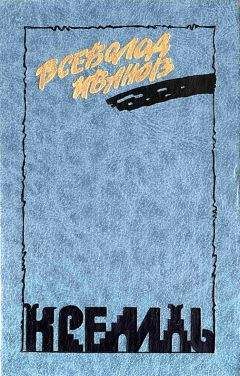Гурий Лопта, окончив Духовную Академию, направился домой. Он ехал долго. Наконец чахоточный кондуктор, кашляя от нестерпимого курения сезонников, прошел по вагону, уныло бормоча «Ужга». Гурий высунулся в окно. В дымке сухого тумана он увидел, как поезд, бросив за собой ветку к Большим Волжским Мануфактурам, обдал влажным паром будку стрелочника, промасленную и знакомую Гурию еще с детства. На мгновение Гурия умилил рыжий человек, стоящий подле будки с посохом, с пыльным картузом в руке и озабоченно поправлявший за плечами несуществующую котомку. Поезд был дешев и тесен. Гурий устал, расслаб.
Порадовало поэтому то, что встречали его только родитель Иван Петрович и неустанный любопыт, дьякон Евангел. Их обгоняли сезонники с пилами, плохо завернутыми в рогожи, приехавшие на хлебную уборку. В рогожах сверкало, и изредка раздавался трепетный вой стали. Рыжий, поправлявший у будки несуществующую котомку, тоже шел через станцию. На него оборачивались. Сезонники думали «мошенник» и поправляли карманы. Гурию стало его жалко, но рыжий был задорен и натянуто весел. Гурий вышел на крыльцо. У коновязи дремали извозчики. Гурий увидал много знакомых лиц. И. П. Лопта, гордо, и смущенно, и неумело улыбаясь, смотрел на сына. Молодой жеребчик играл среди оглобель, недавно окрашенных, а старый тарантас был по-прежнему облуплен, и по-прежнему рессоры гнулись влево. Отец Евангел, больше из любопытства, чем из почтения, сложил руки. «На перроне, отец Гурий, теснота и запах, не откажите благословить», — сказал он. И Гурий ответил ему тем, что многим будет он говорить с болью:
— Не рукоположен еще…
Рыжего с несуществующей котомкой, должно быть, заинтересовало странное движение рук отца Евангела. Опять Гурий увидал его измученные глаза. Гурий отвернулся. Перед ним голубеет Московское шоссе, за ним «стрелка», и на ней Ужгинский Кремль…
желательные вставки, лучшие отрывки по истории Ужгинского Кремля из книги «Звезда чертежей»
…«В нем есть знаменитые башни Зелейная и Фроловско-Проезжая, они служат славой для женщин, идущих по их ступеням, и местопребыванием бойцов за их странную веру! Плывут впереди Кремля реки и раскачиваются по области его леса…» (стр. 37).
…«Сообщаю это я ритмической прозой: два предмета гордости имеют его обитатели: лица девушек как северный жемчуг, брошенный на коралл, и сердца их, вместе с тем, щедры и милостивы. Вы встретите этих девушек на площади Собора Петра Митрополита…» (стр. 42).
…«Они держат горящий факел над глазами коня, и конь, ослепленный, бежит неимоверно быстро. Так в два часа они достигают возвышенностей, называемых Рог-Навалогом, и один час скачут до плато горы, имеющей форму двух сосков и называемой Тугова гора, и там есть, посреди болот, две слободы Ловецкая и Пушкарская. Из болот вытекает река Ужга…» (стр. 54).
…«Я встретил против Кремля, на лугу, называемом Ямским, девушку. Я заметил, что у нее руки тоньше камыша и грудь как спелые яблоки. Там дрались со мной кольчужные мастера. И когда я победил их, они предложили мне золота — и я отказался. Я по-прежнему шел с поднятым оружием. И они предложили мне книгу «Рудники драгоценных камней», и я опустил оружие, так как я не только воин, но и путешественник…» (стр. 79).
…«Говорит беглый раб Андропка: Я пытался бежать, потому что…» И тогда рассказал Хамс-уль-Мулюк, плененный и заточенный в подвалах собора Петра Митрополита, рассказал со слов раба, как царь Петр строит в туманах подле Кремля большие ткацкие фабрики и как сгоняют к ним рабов…» (стр. 107).
…«Теперь я гляжу вперед, туда, где горе должно смениться новой встречей с возлюбленной. Сидя здесь, в подвалах монастыря, под собором Петра Митрополита, я написал «Книгу Путей, Царств, Сообщений и Знаний». Я пришел к выводу, что люди привержены негодованию, но разумный не должен поступать согласно виденному во сне. Я записал, что в Кремле много полезных товаров в лавках на площади и в подвалах под собором Петра Митрополита. По Московской дороге есть веселые города. Идут подле Кремля водообильные реки с угрюмыми селами, в них есть удивительные особенности и вкусные плоды. Люди живут привольно и чтут предания. Монахи красноречивы и почтенны, но они тяжелы несколько на язык и в мыслях их заметно хвастовство. Кирпичные колонны в их храмах искусно раскрашены. Митрополит имеет персидские ковры, много драгоценных камней, подушки из гагачьего пуха и из пуха птиц розового цвета, названия мне не известного, он имеет знаменитые шкуры соболей, куниц и горностаев. Глаза его, от долгих молитв, приобрели форму и цвет лимона…» (стр. 169).
…«Кроме собора Петра Митрополита, видел я еще в Кремле монастыри: Николая Мокрого Чудотворца и Марии Вешней. Видел и храмы: Благовещенья Пресвятой Богородицы в Васильевском стану; Воздвиженья Честного Креста Господня у Неропольского Быстреца; Всех Святых в Заровье; Ильи Пророка на Пробойной улице; Пятницы Великомученицы в Калашной слободе, — все же иные храмы не смог осмотреть, и есть их многое множество. Мы, люди Дарваза, мастера разноцветных рубах с узорами, торопились уехать…» (стр. 333).
…«Хоть конь мой был неподвижен и уши его были как копья и весь Кремль спал, но я не был глух, я слышал, как стремена врагов издавали легкий звон, — и я поспешил воспользоваться молодостью и славой девушки. Была она бела, как хлопчатник…» (стр. 420).
I
На Ямском лугу, между Кремлем и Мануфактурами, Гурий увидел приторной зелени траву и неизменных сорок, которые по-прежнему в рыхлом воздухе позднего лета, изнемогая от жары, хотят попасть в сады Кремля. Они трепещут над низким мостом через реку Ужгу. Еще более ожелезнели своды моста, и на чугунной решетке все еще сохранились остатки ужгинского герба: бронзовый медведь везет на себе человека с веткой в руке и на ветке — змея. Такой же герб висит еще над Девичьими воротами Кремля. Через ворота бегут к Волге купаться мальчишки и девчонки. Вбежав в темный тенистый квадрат, который кладет солнце от ворот, они, замирая сердцем, видят сияющий сноп Волги и пушистый пар, поднявшийся над рекой; тугой запах воды доносится до них. Они приглаживают вспотевшие и взбившиеся волосенки, и им кажется, что как будто стало холодней, они вздыхают и бегут по камням мостовой, по спуску. Булыжники, заросшие травой, приятно обжигают ногу, — и они тогда напрямик устремляются по крепостным валам. За воротами аллея тополей. Листья изгибаются под неощутимым ветром, и пыль перекатывается сухо среди жилок листьев.
— А у нас от тебя много ждут, Гурий, — сказал И. П. Лопта.
— Оскудели, отец?
— Оскудевали-оскудевали, а пока днюем невыясненными, выяснят — задекретят! Велика ли моя обязанность: председатель церковного совета, а смотри, что получилось…
— Чем же живы, отец?
— Кремль — преданьями. Мануфактуры — газетами, Гурий.
Молодой сезонник выкрикнул: «Пила скоро ест, мелко жует, сала не глотает, а мы сыты бываем». Сезонники захохотали и прошли. И. П. Лопта тронул коня. Рыжий с несуществующей котомкой подвинулся к ним ближе. Гурий подумал, что рыжий идет подслушивать, но и сезонники вдруг остановились. На шоссе, из переулка, вышел азиатец в ситцевом халате с засученными рукавами. Он был перепоясан сыромятным ремнем, на котором болталась кривая шашка. Он вел под уздцы коня, на котором седой старец в бурой папахе весело улыбался. Конь стремился гордо. Старец был слеп.
— Много их ходит здесь, — сказал И. П. Лопта, — а такого еще не показывали. Учатся на Мануфактурах, чтобы, дескать, свою промышленность открыть. Ты почему, Гурий, про Агафью не спрашиваешь?
— Больна разве?
Отец Евангел открыл было рот, но взглянул на И. П. Лопту и замолчал. Сезонники окружили азиатцев. Гурий положил под ноги чемодан, уселся. И. П. Лопта, облокотясь на кучерское сиденье, задумчиво смотрел на азиатцев.
— Мужики обступили халатника и думают: чудо, а была у меня девка, поломойка, ты ее, небось, Гурий, и не помнишь? — взял я ее на жизнь, когда экономом служил в Воспитательном доме. И произошло с ней разное, и взяло меня это разное под самое сердце. Велел я ей вымыться и приготовиться, чтобы могла она нагреть своим телом твою постель…
— Плохой обычай, и христианского в нем мало.
— Каков ни на есть, а веду. Сказал ей, а она отвечает мне: «Не хочу». Почему противится, неизвестно, всегда была раньше сговорчивая. Ну, грешен я, обругал, приказываю: «Иди». А она стоит и говорит мне, что от дверей не отойдет. Я тогда и хлопнул дверью со всей силищей и не заметил того, что она за косяк держалась, и отбило ей все пальцы. Ей бы только убрать руку, так она из гордости движения сделать не хотела — руку убрать, дескать, — свою слабость покажу, или сказать мне: «Темно, папаша, не бейте дверью, здесь моя рука лежит», — я б ее уважил. Раздробило пальцы!..